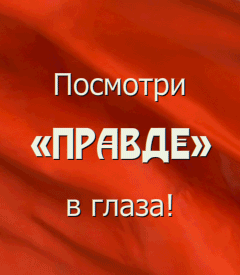В.С.Бушин Максим Горький и другие
БУШИН Владимир Сергеевич, участник Великой Отечественной войны, орденоносец, лауреат Международной премии имени М.А.Шолохова в области литературы и искусства.
* В сокращённом варианте статья опубликована в газете «Правда» 30 марта 1993 г.
Очень немного осталось тех, кто с ним встречался, вместе работал. Одна из них — Анастасия Ивановна Цветаева, который пошёл — да продлят небеса её дни — 99-й год. Переписывалась с Горьким, ездила к нему в Сорренто, потом рассказала об этом в «Воспоминаниях».
Как талисман, я храню её записку, переданную мне 12 октября 83-го года при моём отъезде из Коктебеля. В таком возрасте сочла нужным извиниться за то, что после наших прогулок и трапез не смогла принять участие в моих проводах. А в конце по старинному обыкновению стояли слова: «Храни Вас Бог в пути!». И каждый раз, перечитывая записку, я ощущаю: здесь русский дух...
Анастасия Ивановна писала: «Максим Горький! Это лицо знаешь
с детства. Оно было — в тумане младенческих восприятий — неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной, — о которой шумели взрослые, — жизни. Оно мне встаёт вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка... Глядят вот эти глаза светло, широко, молодо, дерзко под упрямым лбом с назад зачёсанными волосами... Где-то рядом стоят в памяти молодое лицо Скитальца, тёмная шевелюра Андреева, клочковатая, седая борода Толстого, ибсеновские очки. Но это лицо родней... Вот ещё один — из тех, из богатырей моего детства, — Шаляпин!.. Они чем-то похожи. У обоих — дерзкие глаза... И всё-таки — Горький роднее...». В моём отношении к замечательной Анастасии Ивановне, несомненно, сыграло и то, что и
как она написала о Горьком.
...Отчётливо помню такую же атмосферу влюблённости, царившую
в 1948 году, когда отмечали восьмидесятилетие писателя. Разумеется, юбилей писателя не прошёл мимо Литературного института, носящего его имя, где я пребывал тогда в завидной и славной должности второкурсника.
Был объявлен поэтический конкурс. Большинство студентов — вчерашние солдаты, потому ничего удивительного, что старшекурсник Максим Толмачёв представил на конкурс стихотворение «Данко», которое начиналось так:
Коптилка мерцает в землянке.
На нары легла тишина.
Суровую сказку о Данко
Читал молодой старшина.
А утром — наступление. И танк старшины оказался на острие атаки, и был подбит, и загорелся...
Но рядом летела со свистом
Броня наступающих рот.
И гордое сердце танкиста
Горело и звало вперёд.
Вспоминается ещё стихотворение моего однокурсника Владимира Солоухина, который дал как бы ёмкий и сильный поэтический вариант знаменитого горьковского рассказа «Рождение человека». Помните? «Это было в 92-м голодном году между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь весёлый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн...». Предпослав стихотворению эпиграф из того же Горького — «Хочу, чтобы каждый
из людей стал человеком», — Солоухин писал:
Где только что, босы и слабы,
Голодные люди прошли,
Худая орловская баба
Рожала в дорожной пыли.
А волны морские хлестали,
О мокрый песок шелестя,
И принял прохожий скиталец
У бабы живое дитя.
Хорошего много на свете
Под летней густой синевой.
И вынес прохожий на ветер
И поднял над над миром его.
А в мире светло и просторно
И буйное пламя зари.
Ори, человек непокорный,
На землю пришедший, ори!
Смеялся, как сыну родному,
По пояс в солёной воде
С безбрежной любовью к живому,
С великою верой в людей...
Конечно, не все строки здесь поэтически безупречны, но, право, это вполне простительно, ибо автору, как, впрочем, и «прохожему скитальцу», было тогда всего двадцать четыре года. И если можно оспорить ту или иную строку, то уж никак нельзя усомниться в искренности любви поэта к Горькому и веры в то, что, да, в мире светло и просторно.
Думаю, оба вспомнившихся мне стихотворения написаны талантливо, однако, первую премию (конкурс проводился анонимно — под девизами) жюри присудило Солоухину. Почему? Не знаю. Может быть,
по той причине, что в первом стихотворении герой погиб, ушёл из мира, а во втором он в прекрасный и яростный мир только пришёл, и
в те дни, когда страна поднималась из военной разрухи и пепла, герой Горького и Солоухина — это могло не осознаваться — с большой полнотой выражал наши чувства и чаяния.
Ах, как давно это было!.. А вот статья в нынешнем «Огоньке», тоже посвящённая Горькому. «Государство хотело владеть и мозгом Буревестника революции. И тогда прямо на даче, на стоявшем в спальне столе, врачи стали вскрывать труп, и мозг бросили в ведро. И его нёс к машине Пётр Крюков, доверенное лицо Ягоды. Мозг Горького по приказанию Сталина направили в Институт мозга. Государство, построенное
на тотальном контроле, хотело владеть не только гением живых, но и секретом гениальности мёртвых...».
И тут мне был голос старухи Изергиль.
— Господи, что это? Кто написал такое?
— Костиков, — ответил я.
— Хвостиков? — старуха уже давно туга на ухо.
— Нет, Костиков. Тот самый — Вячеслав. В недавнем прошлом — первое перо «Огонька». Ныне — пресс-секретарь президента. 18 марта этого года в ночном выпуске «Вестей», когда честные труженики уже крепко спали, он был объявлен писателем. Тот самый, что регулярно оглашает парламентских противников своего сюзерена то «политическими прохвостами», то «политическими мерзавцами» и неутомимо, доблестно сражается против Константина Злобина, пресс-секретаря председателя Верховного Совета.
— Пусть сражается, — сказал вещий голос. — Но что за чушь в этой статье! Что за лютая демагогия! Да, в 1928 году, сразу как родился Волкогонов, у нас был создан Институт мозга, где, в частности, занимались исследованием мозга выдающихся людей. Это же в интересах науки, всего человечества. Подобные институты, лаборатории есть и в других странах. Но причём здесь «ведро», «бросили», «тотальный контроль» над живыми и мёртвыми? Ведь таким «контролем» — «Что там у покойника было на сердце?» — можно объявить любое вскрытие трупа,
а оно обязательно по закону.
— Видимо, — робко предположил я, — пресс-секретарь тревожится, что Институт мозга в надлежащее время проявит интерес к содержанию черепных коробок авторов «Огонька».
— Напрасные тревоги!
— Или опасается, что с головой его шефа в своё время поступят как романе Александра Беляева обошлись с головой профессора Доуэля — отрежут, приватизируют и станут нещадно эксплуатировать.
— Ну уж... Тут больше подошла бы голова умного Гайдара...
И голос умолк.
Статья В.Костикова начинается с того же рассказа «Рождение человека», им и заканчивается. Но об этом позже, а сейчас заметим лишь, что несмотря на принадлежность элитарно-революционным верхам и великие победы над К.Злобиным, писатель не оказался в первых рядах горьковских потрошителей, а плетётся сзади.
Мне шлёт письма аноним А. Он постоянно угрожает мне и членам моей семьи. Грозил и за то, в частности, что однажды я рассказал в газете, как Ф.Бурлацкий, тогда главный редактор «Литгазеты», предпринял «профессорскую пробежку в валенках по скорбной странице жизни Горького». Аноним писал: «Зачем ты взялся защищать Буревестника?.. Да знаешь ли ты, что Горький — выходец из очень богатой семьи? Почитай об этом у нобелевского лауреата Бунина. А в части его портретов и произведений — их уничтожить нужно все до единого! Все единого...
А ты приговорён. У тебя нет выхода!».
И вот газеты сообщают: в одной библиотеке Челябинска, словно
по призыву этого типа, изъяли все книги Горького и бросили их в костёр. Кто? Духовные братья тех, кто жёг его книги в 1933 году на площадях Берлина? Нет, прав был Горький, когда говорил, что расстояние
от хулигана до фашиста короче воробьиного носа.
Читаю в трёх номерах «Московской.правды» статью Льва Колодного «Двуглавый Буревестник», умопомрачительную от заголовка до конца. Чтобы Горький не сделал, ко всему у автора есть зацепка, ото всего
с души у него воротит. Допустим, в начальную послеоктябрьскую пору писатель издаёт газету «Новая жизнь», где печатает знаменитый цикл своих статей «Несвоевременные мысли», в которых бесстрашно и яростно протестует против беззаконий, расправ, кровопролитий. Казалось бы, благороднейшее дело! Нет, Л.Колодный думает иначе: «Возникает вопрос, как совмещалась эта позиция Горького с членством в партии?». Ведь это же вопиющее нарушение партийной дисциплины, а Устав — превыше всего. И члена партии с сорокалетним стажем приводит в негодование недисциплинированный писатель. Мы его понимаем.
Но можно себе представить, что написал бы он, если Горький в ту пору молчал бы.
Успокоим старого большевика: в те дни писатель уже не состоял
в партии. Но в противоположность, скажем, писателю А.Борщаговскому или В.Оскоцкому: он вышел из неё, когда она шла к власти, а не когда потеряла власть. Есть же разница между Соколом и Ужом.
Столь же глубоко вместе с моим незагадочным анонимом Л.Колодный возмущён «стремлением биографов приписать Горькому пролетарское происхождение». Он не отрицает, что будущий писатель в десять лет остался круглым сиротой, служил «мальчиком» при магазине, посудником на пароходе, грузчиком, пекарем, сторожем, но — «дед-то, оказывается, по социальному происхождению не солдат, а офицер, разжалованный в солдаты за жестокость к нижним чинам». Следовательно, «с благородным рабочим происхождением никак не получается». К тому же, — «Где был Горький, когда брали Зимний? В Москве!». И какой он этого пролетарский писатель!.. Узнаёте, дорогие читатели, эту манеру, этот навык по делам отца и деда выносить приговор сыну или внуку? Как видите, она жива и процветает в столичной газете.
Да, да, «у станка не стоял, в пролетарском котле не варился, квалификации не заимел ни одном деле». Так, ведь, говорят, никакой квалификации не имел и Гомер. Какая там квалификация, если слепой. Всю жизнь только бродяжничал по Древней Элладе, как Горький по Руси. Ну, правда, ещё насобачился в слепую слагать стихи, от которых у некоторых чудаков до сих пор замирает сердце: «Встала из мрака младая
с перстами пурпурными Эос...». Ну, смастерил он две нетленки — «Илиаду» и «Одиссею». Так ведь их после его смерти разнёс Лев Ефимович Зоил, известный демократ. Правда, сжигать не призывал.
О «квалификации» же Горького легко привести много веских отзывов самых громких имён, самых блистательных перьев мировой литературы,
но мы уж продолжим цветаевский сюжет. В 1933 году в Париже Марине Ивановне предстояло «сидеть на эстраде» по случаю чествованию Бунина, получившего Нобелевскую премию. Отлично понимая, что премия — «это политика», она писала накануне: «Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи...».
Но до чего, однако, люди колодного склада похожи друг на друга
по своей мелочности и тугодумству. Вот и Д.Волкогонов пишет о Ленине: никакой у него квалификации! За станком он не стоял! За плугом
не ходил! И опять же совершенно сбрасывает со счёта хотя бы то, что Ленин писал статьи и книги, которые не залеживались, и ещё вчера генерал-философ называл великими и гениальными.
А какова их собственная-то квалификация, господи! А ведь фразу построить не умеют, словцо повернуть как надо не способны, не чуют, как оно пахнет. Взгляните только: «Горький долго плавал в глубинах социального моря»... «Он принимал активное участие в исторических событиях»... «К Горькому стремятся деятели культуры»... «Супруги отправились на вокзал, стремясь в Петербург»... «Он переезжает в дом на углу Воздвиженки и Моховой. Отсюда (!) они с М.Ф.Андреевой ходят в театр»... «Пришлось выискивать средства, чтобы съезд закончился»... «поднялась лавина казней»... «произошла нормальная эмиграция»... Это Колодный. Ещё красивше пишет Волкогонов.
И тут мне был голос Егора Булычёва:
— А Костиков?
— А Костиков пишет: «Горький будто бы нарочно позаботился о том, чтобы оставить „показания истории” против самого себя».
— Какой уголовный ход мысли! Это какие же показания?
— Очень много! Например, суд над Промпартией.
— А разве там белокрылых ангелов судили?
— «Его участие в апологетике насильственной коллективизации».
— Так и сказано «участие апологетике»? Боже праведный! А откуда он взял, что коллективизация была насильственной? Червиченко просветил или Селюнин?
— Написал статью «Если враг не сдаётся — его уничтожают».
— А враг, что, выдумка? Если сейчас объявилось столько осатанелых врагов Советской власти и русского народа, то можно себе представить, сколько их было шестьдесят лет назад! Словом, лучше бы пресс-секретарь рассказал о «показаниях истории» против себя, которые каждый день оставляет его сюзерен да и он сам, Костиков.
Однако упомянутые выше авторы, включая анонима, отнюдь не были в нынешние времена зачинателями горькоедства. Первым-то с саблей наголо выскочил, разумеется, Александр Солженицын, кто же ещё! Именно он в новейшую пору оказался закопёрщиком той посмертной травли, что потом обрушилась не только на Горького, но и на Маяковского, Островского, Шолохова...
В.Лакшин пишет, что в советской литературе Солженицын «ни одной вещью не восхитился, ни об одном писателе не сказал с подлинным сочувствием». Какое там восхищение, какое сочувствие! Он поносит чуть ли не всю нашу литературу, и не только советскую. Едва ли не ко всем русским писателям у него претензии, придирки, подозрения. Начиная аж с Пушкина, который в «Цыганах», извольте знать, «нахваливал блатное начало». Помните слова старого цыгана: «Мы дики, нет у нас законов...». А Л.Толстой замшелый эгоист, оказывается, вовсе и не боролся политическую свободу, вполне довольствуясь тем, что будто бы имел её для себя лично. Да и к тому же нередко «зубоскалил» по поводу серьёзнейших вещей. Достоевский в своих книгах ужас как любил «разодрать и умилить», его каторга так это ж просто дом отдыха, там в белых штанах ходили, правда, с кандалами. А что можно сказать о Короленко, дерзнувшем объявить, что «Человек создан для счастья, как птица для полёта!». Только одно: «Жалкая идеология!».
На советских же писателей от Н.Асеева и М.Алексева до М.Шолохова и И.Эренбурга он обрушивает такой зловонный поток, что просто удивительно, как сам не задохнулся в нём. Полюбуйтесь: «деревянное ухо, деревянное сердце»... «догматический лоб»... «ископаемый догматик»... «видный мракобес»... «воинственный придурок»... «огородное пугало»... «вышибала»... «проходимец»... «помойный критик»... «оборотистый и чутконосый»... «ничтожный и вкрадчивый»... «лысый, изворотливый, бесстыдный»... «трусливый шкодник»... «склизкий, мутно угодливый»...
«о, этот жирный! ведь не подавится»... «гадливо встретиться»... «мурло»... «балаганная харя»... «лицо, подобное пухлому холёному заду» и т. п. А тут ещё и целый арсенал изысканных зоологизмов: «кот».., «сукин сын».., «отъевшаяся лиса».., «хваткий волк».., «широкочелюстный хамелеон».., «яростный кабан».., «разъярённый скорпион на задних ножках». И ведь всё это
не отвлечённо, не вообще, а о конкретных, широко известных людях.
Сей поток хорошо дополняется бадейками для многих произведений советских писателей и журналов: «дешёвенькая комедия»... «вздорный анекдот»... «убожество»... «газетное пойло»... «грязный журнал»... «бандитский журнал»... «мертвяцкий журнал»... «журнал-трупоед»... «журналы, рвотные по содержании и дохлые по художественности»... «для каких дураков это пишется?»... «уж брешите кому-нибудь другому»...
Ну, казалось бы, чем ему досадила славная песенка М.Фрадкина
на слова Н.Рыленкова, в которой поётся о том, как
Ходит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблён...
Так ведь и на неё плюнул: «Дрянь!». Вы, читатель, возможно смеётесь, читая этот благоуханный перечень, а представьте-ка себя или свою работу под одной из таких кличек, полученных от столь грандиозной знаменитости.
Конечно, тут материала больше чем достаточно, чтобы давно задуматься о психической стабильности заморского фонтана, но полезно подумать и о том, как выглядят руководители Союза писателей, которые после всех этих излияний, относящихся к иным персонально, прияли решение восстановить Солженицына в Союзе.
Рискну привести конкретно-адресные его аттестации ещё о нескольких покойных писателях. О Маяковском: «Остроумие плоское, не национален, не заслуживает площади рядом с Пушкинской... Вдохновитель репрессий». О Булгакове и его «Мастере и Маргарите»: «Распутное увлечение нечистой силой... Евангельская история, как будто глазами Сатаны увиденная». О Твардовском: «Вельможные навыки...». О Шолохове: «Палаческие руки...». И это о Шолохове, бесстрашно спасавшем многих невинных людей, имевшем веские основания опасаться за собственную жизнь, пишет человек, который сам был завербован платным сексотом и под кличкой «Ветров» строчил доносы на товарищей по лагерю. (См.: Военно-исторический журнал. 1990. № 12).
Как известно, на фронт Великой Отечественной войны Солженицын явился для своего возраста поздновато — лишь весной 1943 года,
уж после Сталинградского перелома, и двух первых, самых страшных её лет он не видел. Не видел и трёх последних её месяцев, может быть, наиболее яростных: оказался в глубоком тылу, в полной безопасности. Да и на фронте командовал он не огневой батареей, как долго твердил об этом, а такой, в которой не было ни одной пушки — батареей звуковой разведки. Жизнь там была такая, что не раз приезжал погостить школьный друг, потом — супруга, и до тех пор блаженствовала она
в траншее, что ли, с мужем, пока командир части не потребовал её удаления: демаскировала... Ныне идёт новая Отечественная война. И вот, налюбовавшийся ею из-за океана, Солженицын, хотя и с ещё большим опозданием, чем в 43-м, но вроде бы собрался, наконец, на фронт. Прекрасно! Однако, в чьи ряды он намерен встать? Если в наши, то ведь
мы не можем забыть ему хотя бы только одного Шолохова, которого
он ещё и обвиняет в литературном воровстве. Если в их ряды, то неужели они простят ему хотя бы «деревянное ухо, деревянное сердце» — ведь это было сказано об их кумире.
Что касается Горького, то долгие годы, даже будучи уже вполне зрелым человеком, Солженицын считал его величайшим писателем мира. До того благоговел перед ним, что когда жена приезжала на фронт, он под бомбами и снарядами, заглушая грохот боя, читал ей в траншее, что ли, «Жизнь Матвея Кожемякина». Но вот — прозрел! И уж тут просто не находил слов для ненависти и презрения. Допустим, почему Горький в 1928 году вернулся в СССР? Казалось бы, дело самое естественное и простое: стосковался человек по родной земле, по русской речи, по близким людям, хотел принять участие в грандиозном строительстве, что тогда разворачивалось. Ничего подобного, уверяет Солженицын, он сделал это
из самых низменных побуждений: «Оказавшись в Сорренто, Горький
с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем и денег. Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться
в Союз и принять все условия. Тут стал он добровольным пленником Ягоды». Ничего другого Солженицын просто неспособен помыслить!
Здесь ни слова правды. Владислав Ходасевич, далеко не во всём согласный с Горьким, к тому же «сделавший злость своим ремеслом», тесно общавшийся с великим писателем в течение семи лет и проживший полтора года в его доме, притом как раз за границей, писал после его смерти: «В известности не мог с ним сравняться ни один из русских писателей, которых мне приходись встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. (На 20 тысяч из них Горький ответил. — В.Б.). Где бы он ни появлялся, к нему обрались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табл-д,отом». Тут можно только уточнить, что среди и тех писателей, с которыми Ходасевич никогда не встречался и не мог встретиться, тоже ни один не мог сравниться с Горьким в известности и славе.
Так обстояло с известностью и славой. А вот как с деньгами и отношением к ним: «Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год (речь идёт о заграничных заработках
в 20-х годах. — В.Б.), из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив... Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю, — не меньше человек пятнадцати. Тут были люди различнейших слоёв общества, вплоть до титулованных эмигрантов, от родственников до таких, которых он никогда не видел. Целые семьи жили на его счёт гораздо привольнее, чем жил он сам. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и
на заботясь о том, на что они пойдут...». Вероятно, у Солженицына гонорары по нынешним временам побольше. Так, может быть, назовёт
он хоть одного иждивенца, живущего на его счёт в роскошном и обширном вермонтском поместье? Ну, Говорухин не в счёт, конечно...
Как только Ф.Бурлацкий, словно под диктовку Солженицына, убрал портрет Горького с первой полосы «Литературки», как тотчас по пятам великого демократа кинулся патриот К. и тоже смахнул портрет с титульного листа своего журнала. Правда, некоторое время там оставались слова «Основан А.М.Горьким в 1933 году», но вскоре выбросили и их, — так ненавистно всякое упоминание даже об отдалённой связи!
И это происходит при полном молчании секретариата Союза писателей России, чьим органом является журнал, и всех двадцати двух членов редколлегии, начиная от Ю.Бондарева, иные из которых — лауреаты премии имени Горького. Так с кем же мы, мастера культуры, — с Максимом Горьким или с Бурлацким, Колодным и Костиковым? А потом вы будете писать чувствительные эссе, изящные миниатюры о предательстве наших моральных ценностей, о падении нравов, о конформизме. «Простите нас...». С Бурлацким загадок нет, но вы-то, именующие себя патриотами, должны бы гордиться своей принадлежностью к той литературе, в которой работал Горький,
как гордились бы им в любой литературе мира, вам бы защищать его от колодных и костиковых, а вы заняты изданием в третий раз своих 8—10-томников.
Разумеется, у Солженицына есть ещё «аргументы» против Горького, но они такого же интеллектуального и морального уровня, что и упомянутые выше. Поэтому рассматривать их просто скучно. Лучше мы тут позволим себе для полноты картины отвлечься на другие имена,
но речь пойдёт, увы, о том же самом уровне. Уж не станем говорить, например, как Б.Сарнов ниспровергает Маяковского или К.Кедров — Островского. Возьмём имена покрупней, поизвестней, познаменитей.
Кто не знает, допустим, Виктора Астафьева — Героя Социалистического Труда, многократного лауреата, депутата СССР, собеседника экс-президента. До Горького он, кажется, ещё не добрался, но Островский от него не ускользнул. Года два с половиной назад в «Комсомольской правде» (где же ещё) он напечатал статью «Так как же закалялась сталь?», в которой поведал жуткую историю из своего детства. В пятом классе учительница читала знаменитый роман Островского. «Книга всех проняла, всем понравилась». Девочке по имени Ариша тоже понравилась, но она, однако, заметила: «Павка попу в тесто махорки насыпал... Нехорошо так над хлебом галиться... Бог накажет. Что ж, справедливо. И писатель Астафьев должен бы похвалить писателя Островского за то, что он не идеализирует своего героя, честно показывает, что в детстве тот был способен вот на такое злое озорство. Реализм! Впрочем, как рассказывает в этой же статье Астафьев, сам он и его товарищи, даже будучи года на 3—4 старше Павки, отчубучивали кое-что гораздо злей. Например, «однажды подпилили ножки стула учителя Артикуло, он упал на пол, но не расшибся». А ведь очень просто мог расшибиться, мог и позвоночник сломать. И вот, что ещё интересно: Павка-то не любил попа, открыто не любил, как не любил, допустим, пушкинский Балда попа-скварыгу. А Артикуло был любимым учителем Астафьева и его одноклассников. Право, тут уж какое-то изуверство. Но — писатель не скрывает этого. Социалистический реализм!
Астафьев уверяет, что когда Ариша высказала своё замечание, «все учащиеся начали озираться на дверь — счас как откроется она, как войдёт товарищ в кожаном пиджаке да в хромовых сапогах, да в галифе...». Жизнь Ариши превратилась в кошмар. Учительница стала звать
её не иначе, как «рожа». Отец зверски избил: «отняли почти насмерть забитую». И стала она говорить о романе вот так: «мужественный герой... пафос... несгибаемый характер, железная воля... книга учит любить человека и почитать Советскую власть, коммунистическую идею...».
Но всего этого Астафьеву показалось мало для поношения романа. Он ещё уверяет, что если не целиком, то уж лучшие страницы его наверняка написали «два корифея и столпа советской литературы — Анна Караваева и Марк Колосов, а вовсе не безвестный дотоле, больной Островский. Как видим, и на старости лет любимое занятие его — подпиливать ножки... И эту постыдную чушь печатают митрофанушки, ничего, кроме «Московских новостей», не читавшие. Хоть заглянули бы в книги Караваевой и Колосова. Там не найти ни одной странички, равноценной лучшим местам великого романа Островского.
Ну а редактор, конечно, был. Так ведь он и Астафьеву не помешал бы, даже сейчас. Вот он уверяет, например, что стрелки на военных картах всегда и непременно означают армию как войсковое соединение. Если, говорит, на картах Отечественной войны две синих стрелки и десять красных, то это значит, что наших сил было в пять раз больше, чем немецких. При таком превосходстве, дескать, мы всю войну и воевали. Редактор выбросил бы всю эту дичь, объяснил бы, что стрелка на карте означает не численный состав войск, а направление их удара или контрудара. К тому же, немецкая армия по численности, как правило, в несколько раз превосходила нашу... Или вот читаем в очерке, как один персонаж в ссоре что-то торопливо говорит, то и дело цокая при этом. Когда он ушёл, автор спросил у другого человека, что тот говорил, и узнаёт: матерился. Писатель в недоумении: уж я ли не знаток матерщины, дескать, но не могу припомнить ни одного матерного слова, чтобы
в нём звучало «цэ». Образованный редактор и тут легко помог бы писателю, напомнив ему не менее полдюжины таких слов.
Вот не менее громкое имя — Владимир Солоухин. Чем теперь занимается лауреат горьковского конкурса 1948 года? Представьте себе, вместе с Астафьевым, крушит Островского и его роман, вставший
им вдруг поперёк горла. И довод у него всего один да к тому же — трудно поверить — тот же самый, что у Астафьева: «Павел Корчагин, образец человеческого и коммунистического поведения для многих последующих поколений, насыпал священнику, школьному учителю закона Божьего, в пасхальное тесто махорки. И это преподносилось нам как доблесть. То есть мелкая пакость преподносилась как доблесть».
Ещё раз повторим: правильно, пакость. Но кто, где, когда преподносил это как доблесть? Неужели Солоухину в школе в школе говорили: «Вова, сыпь махорку в тесто попам!». Кроме того, ведь нашкодил-то
не «Павел Корчагин», не «образец для поколений», а Пашка — школьник младшего класса.
К чести Солоухина можно сказать, что авторстве Островского, как Астафьев, он не сомневается, не говорит, что роман написали Белла Ахмадулина и Александр Иванов. Впрочем, жертву для удовлетворения своей страсти к разоблачениям и в этом вопросе он находит: Шолохов! Не мог он, говорит, написать «Тихий Дон», никак не мог, ибо в романе запечатлён жизненный опыт человека лет шестидесяти, а Шолохову было всего тридцать пять, когда он закончил эпопею. Гения он меряет аршином своего опыта, в котором самая яркая и содержательная страница — служба в охране Кремля.
О Павке же Корчагине, несмотря на махорку, когда-то были сказаны такие слова: «Один из лучших людей на земле... Его любили все женщины, которые живут и проходят в романе, его полюбил теперь весь наш советский народ, к нему обратятся за помощью и другие народы. Он был самым нежным, мужественным и верным сыном рабочего народа. И в наши дни...». И в наши дни!.. «когда фашизм стремится отравить весь мир ложью, шпионажем, предательством, разобщить людей, чтобы обессилить и поработить их, — в наши решающие годы Корчагин есть доказательство, что жизнь неугасима, что заря прогресса человечества только занялась на небосклоне истории. Без Корчагиных ничего нельзя сделать на земле действительно серьёзного и существенного». Так писал, когда ему было уже под сорок, спустя после всех написанных по молодости «Котлованов» и «Чевенгуров», которые ныне пытаются представить нам вершиной его творчества, Андрей Платонов.
И тут мне опять голос — большевика Кутузова из «Жизни Клима Самгина»:
— А Костиков?
— А он пишет, что Горький не мог не видеть: рождённый им
«под Очемчирами» Человек получил не так уж много шансов сделаться счастливым. Он, дескать, мог с большой долей вероятности стать одним из тех миллионов, что погибли в Гражданскую войну; одной
из жертв голода 1921 года; мог легко попасть на мушку ЧК, мог стать мог обвиняемым на одном из процессов против «врагов народа», жертвой Великой Отечественной войны...
— Правильно. Ещё он мог стать жертвой Ашхабадского землетрясения, мог попасть под трамвай, утонуть, сойти с ума. Правильно!
Об этом писал ещё горьковский герой поэт Смертяшкин:
Нам отовсюду жизнь грозит,
Нас ежедневно смерть разит,
Со всех точек зрения
Мы только жертвы тления.
— Но жизнь наша состояла всё-таки не только из навязанных нам войн, судебных процессов и землетрясений. Было в ней и ещё кое-что, что давало возможность, например, безвестному и даже скромных талантов человеку получить образование, стать писателем «Огонька» и даже пресс-секретарём президента.
— Правильно. А он?
— А он продолжает: человек, мол, этот «где-нибудь в 55—57-м ушёл бы на заслуженный отдых, получив от государства-благодетеля скромную пенсию».
— Правильно. Потом пенсию ему прибавили, и он жил бы по-человечески до тех пор, пока не пришли к власти два провинциальных склочника, ничего не умеющих, кроме как драться за власть.
— Правильно. Но в смертном реестре Костикова пропущен один очень важный пункт. Человек, родившийся под Очемчирами, мог там сегодня и погибнуть. Ведь именно там по вине малограмотных склочников и льётся ныне кровь абхазцев, грузин и русских. Это лишь одно
из их «показаний истории» против себя.
— Правильно. И склочники за это ответят, — сказал голос.
Пора, однако, ответить на вопрос: за что же так люто ненавидят конструкторы и прихлебатели нынешнего строя Горького и Маяковского, Островского и Шолохова, за что, как родных, чтим и любим их мы?
Да, конечно же, за веру в человека, в социализм, в зарю на небосклоне истории. За то, что она, и прежде всего Максим Горький — ярчайшее, неотразимое доказательство глубинной талантливости и духовной мощи русского народа. Пожалуй, за это доказательство мы сильнее всего и любим его, они — отчаянней всего ненавидят
Горький однажды сказал: «Если враг не сдаётся — его уничтожают». С особой ненавистью о приведённых словах Горького говорят как раз те, кто, видя, что мы не сдаёмся, развернули беспощадную войну на уничтожение русской государственности, русской культуры, русской нравственности. Но мы выстоим. Нам помогут в этом Горький и его сотоварищи.
И тут мне был горьковский голос:
— Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — Бог свободного человека!
А из дальней дали времён донеслось:
— Встала из мрака с перстами пурпурными Эос...
Источник: Изм. 1993. № 3(4). С. 62—67.
Версия для печати