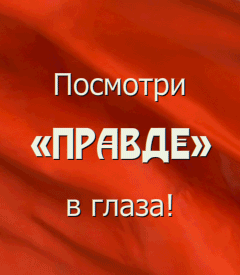С.Н.Мареев Октябрьская революция: роль народных масс и личности в истории
Революция — явление жажды жизни человека.
Явление его любви к ней. Ненависть — душа революции.
Андрей Платонов.
___
МАРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор философских наук, профессор.
По телевизору белый пудель собрал вокруг себя разных историков и политологов и поставил перед ними один вопрос: как получилось, что большевики, — партия весьма слабая, как он заметил, — смели всё, что было в России за несколько дней. «Слабая партия» смела всё, что было
в России за несколько дней?! Пуделю и невдомёк, что всякая политическая партия сильна силой той народной массы, интересы которой она представляет и выражает. И пошло обычное либерально-интеллигентское обсуждение. Столыпину не дали провести реформы, — говорит один. Милюков требовал невозможного, всеобщей и поголовной частной собственности. Кривошеин не вовремя затеял реформу государственного управления… Но во всём этом раскладе не было в общем только одного, главного причём, действующего лица — Народа. Не было ни классов,
ни сословий, ни крестьян, страдавших от малоземелья, ни рабочих, трудившихся на фабриках и заводах, интеллигенции, которую, как выразился Достоевский, рефлексия заела… А есть только царь с полоумной царицей, Распутин, Кривошеин, Милюков… А ответ-то на этот вопрос простой: люди не захотели жить по-старому. Низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому… Учили же вас когда-то…
Вот и другой завсегдатай телевизионных каналов, Л.Млечин, по случаю юбилея Февраля стал до небес восхвалять думских деятелей, Львова, Гучкова, Родзянку… Уж такие они умницы были, такие образованные, такие благородные и так хотели послужить России, только вот… не знали, что им делать. Правда, в семье не без урода. Вот и здесь нашёлся «урод», Павел Николаевич Милюков, который ругал царицу за то, что она своим соотечественникам вагонами отправляла хлеб и сахар. Но тут не выдержал даже ведущий: ну, а что там народ… И наш «историк» даже растерялся и смог выдавить из себя только какую-то невнятицу, что-то вроде того, что народ делал то, что от него требовалось… Кем требовалось, что требовалось…
«Ни одна революция, — говорил К.Маркс, — не может быть совершена партией, она совершается только народом». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.
Т. 45. С. 475). Революцию, вторил ему В.И.Ленин, «нельзя „сделать”, заказать... революции вырастают из объективно... назревших кризисов и переломов истории». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 246). Ленин не был авантюристом, желающим немедленно получить власть. И основным программным лозунгом, который он выдвигал после своего прибытия в революционный Петроград, было завоевание большинства народа на свою сторону. И только тогда, когда большинство в Советах получили большевики, был взят курс на вооружённое восстание и взятие власти Советами. «Если нет у революционной партии большинства, — писал в этой связи Ленин, — в передовых отрядах революционных классов и в стране, то не может быть речи о восстании». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 337).
В своё время Вольтер выдвинул идею объективной истории, которую он назвал «Философия истории». «Когда я писал историю Людовика XIV, — характеризует свой метод Вольтер, — я старался не вникать больше чем нужно, в тайны его кабинета. Я рассматриваю великие события этого царствования как положительные явления и описываю их, не восходя к первому основанию. Первопричина не существует для физика, так же как начало интриги не существует для историка. Изображать нравы людей, изображать историю искусств — вот моя единственная цель. Я безусловно, сумею сказать правду, пока речь идёт о Декарте, Корнеле, Пуссене, Жирардоне, о всех предприятиях, полезных людям, но я встал бы на путь лжи, если бы захотел передать разговоры Людовика XIV c мадам Ментенон».
История не делается в кабинетах и будуарах. Она делается на полях сражений и на полях, на которых выращивают хлеб. Она делается учёными и художниками. И развитию промышленности, ремесла, сельского хозяйства Вольтер придаёт гораздо большее значение, чем разговорам Людовика XIV с мадам де Ментенон. А наши «историки»-политиканы всю историю Революции сводят к дворцовым интригами и психологии царя, царицы, авантюристов Распутина и Бадмаева. Народ — субъект истории, что бы там ни говорилось и какие бы интриги ни плелись
во дворце и на квартире Распутина. Это только отражение того общего загнивания и упадка всей системы, которые выразились в развале армии, промышленности, транспорта главным образом. А «историки» говорят и пишут о победоносной Русской армии, у которой «украли победу». Кто украл? — Намёк на злокозненных «большевиков», как будто это «большевики» привели в негодность конский состав, из-за чего армия при отступлении не могла вывезти орудия, которые доставались немцам.
Армия отказалась от царя, и это решило вопрос о власти, и в Феврале и Октябре: армия перешла на сторону народа. Она и была самим народом, получившим в руки оружие. И власти, затеяв империалистическую войну и вооружив для этого народ, сами подвели под себя мину замедленного действия. В 1917 году армия воевать уже не хотела и
не могла. Про неё, как пишет Ленин, «небольшевик офицер Дубасов официально от имени фронта заявил, что „она воевать не будет”, эта армия станет ... голодать и мерзнуть до „назначенного” числа». (Там же.
С. 339). А нынешняя либеральная интеллигенция проклинает за это свой народ, обзывая его разнузданной толпой, чуть ли не быдлом.
И ужасно переживают за царя. Царя им жалко. А людей, которых
по приказанию царя расстреливали на Дворцовой площади 9-го января 1905 года. 150 душ загублено за что? — им не жалко. За то, что хотели попросить хлеба у царя. Так, кого жалеть надо.
И ещё одна передача, в которой обсуждается только одна сторона — власть, а другой стороны, несчастного народа, как бы и нет. И один
из участников обсуждения, Чёрный Мурза, предложил популяризировать замечательных думских деятелей, Львова, Гучкова и др. А российского народа на исторической арене вовсе нет.
«Нет большего хамства, чем презрение к народу. Народ и толпа —
не одно и то же. Народы создают великое сплочение революции, тогда как толпа, руководимая демагогами, его разлагает и губит. Движение, подобное фашизму, превращает народ в толпу; движения, подобные Октябрьской революции, поднимают толпу до уровня народа». (Лифшиц М. Нравственное значение Октябрьской революции // От Великого Октября к советскому социализму. Взгляд 100 лет спустя. — М.: Мир философии, 2017. С. 146).
Либералы пытаются изобразить народ в Революции как разнузданную толпу, которая мародерствовала и заплёвывала улицы Петрограда семечками. Но посмотрите документальные кадры того времени. И там не толпа, а организованные колонны полков и частей, расквартированных в столице. А бандитизм в городе, как известно, был спровоцирован Временным правительством, которое открыло двери тюрем настеж и выпустило не только политических, но и уголовных преступников. И когда придёт время Октября, то взятие власти будет настолько чётко организовано, что пройдёт почти бескровно и без эксцессов.
«Над народом не надо смеяться, — писал Андрей Платонов, — даже когда он по-язычески верит в свою богородицу». (Красный Платонов. — М.: Common place, 2016. С. 258). Понятно, что народ не всегда приятен во всех отношениях. И Платонов в Чевенгуре дал целую галерею чевенгурских придурков из самых низов. Но он скорее жалеет их, чем презирает. И самую правдивую характеристику рабочего человека он дал
в своей ранней статье «Герои труда. Кузнец, слесарь и литейщик».
«Те люди, о которых я буду говорить, люди старые, даже религиозные, глубоко привязанные ко всему русскому, к старым пережиткам, почти тёмные, но с прекрасными дальнозоркими глазами, светлыми головами и сердцами революционеров, хотя и никогда они не ораторствовали. Они революционеры особенные, вроде Ленина, который любит русскую старину и славянские письмена; склонны к тихой думе, покою и ужину, склонны ко всем вещам, какие есть на свете, одарены твёрдой, неутомляющейся любовью, и эта любовь у них становится в повседневной жизни волей к благу и счастью. Эта же любовь ко всему и к каждому… эта любовь держит их у станков голодными и раздетыми и всё-таки свозь шёпот и ненависть заставляет их надеяться на успех нашей революции и работать за неё день за днем». (Там же. С. 137—138).
И это мой дед, Мареев Сергей Афанасьевич, московский мастеровой, отданный мальчиком в ученики столяра, который любил отмечать и советские и церковные праздники, но без всякого фанатизма, а как предлог погулять. В особенности это Пасха. Бабка пекла куличи, а дед инкрустировал их крашеными яйцами, украшал бумажными цветами,
а в церковь освящать это шла уже бабка. В саму церковь дед, сколько
я помню, вообще не заходил, но был звонарём-любителем и прекрасно звонил в колокола. Дед много выпивал, как все русские мастеровые люди, но дело своё знал превосходно. И все жители села обращались
к нему, когда надо было изготовить грабли или наладить косу. А когда надо было кого-то хоронить, то гроб заказывали деду. И тот делал замечательные гробы. Сам ложился, чтобы убедиться, что покойничку будет удобно. Украшал узором по трафарету и сдавал заказчику. И получал столько, сколько хватало на четвертинку водки и на двести грамм хамсы. Это называлось «сто голов». Теперь этого даже кошкам и собакам не покупают. И Фанасича уважали и любили все. «Мастер в человеке, — как верно пишет Платонов, — есть необходимое условие уважения к нему всех остальных людей. Будь он разбойник, но раз он ещё и мастер — кончено, всё равно его любят». (Там же. С.145—146).
Дед, между прочим, участвовал в строительстве первого, ещё деревянного, Мавзолея Ленина. А в избе у нас висел его портрет. Только
не парадный, на показ. А тот, где Ленин читает газету в своей кремлёвской квартире. И он любил именно эту фотографию: у деда был совершенно определённый вкус, который, наверное, и мне передался. Да, и всё, что есть во мне хорошего, если такое вообще есть, от него, от деда.
И как же резануло меня, когда одна певичка с р`отом до ушей вдруг
с ненавистью заговорила о «гегемоне», который якобы не любил романса. Во-первых, «гегемон» вовсе не обязан любить то, что любите вы. Во-вторых, откуда вы взяли, что в городских низах не любили русского романса, — он там, собственно, и зародился. Но поразительна эта интеллигентская ненависть к простому народу. Это ужасно гнусно и противно. И как могло бы меня порадовать нечаянное заявление нашего президента на последней его встрече с народом, что он родом из народа, и про своего отца, который считал копейки, и про свой собственный комплекс бедного человека, что он уходя всегда гасит свет. А ещё раньше как-то он окоротил сына юриста, который наезжал на «простых», что им не надо позволять размножаться, заявив, что его отец был простой работяга. Но вот, чтобы я особенно не радовался, он тут же, — к чему бы это, — начал говорить про Столыпина, которому он поставил памятник возле дома правительства. Но это ведь памятник как раз убийце этого самого «простого народа»! И про «галстуки» столыпинские он знает, и про столыпинские вагоны: сорок людей, восемь лошадей. Так как же можно одной рукой давать, а другой назад брать? Ведь это какое-то двурушничество…
Народ рассматривается либеральной «элитой» в лучшем случае как призераемый. Но это русское слово то же самое, что и презираемый.
В России существовали дома общественного призрения. И туда поселяли всяких убогих людей, чтобы они, как говорится, не мозолили глаза чистой публике. Об этом прекрасно написал замечательный русский демократ Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «…Не надо упускать из вида, — писал он, — что культурному человеку, взлелеянному на лоне эстетических преданий, всегда присуща некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себе происхождение лохмотьев и бескормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляет отожествиться с мирской нуждой и нести на себе грехи мира сего. Тут и художественные инстинкты, столь могущественные в других случаях, не помогают. Или, вернее сказать, помогают наоборот, то есть вселяют инстинктивный страх и непреодолимое желание избежать зрелища нищеты. Обыкновенно это последнее желание формулируется более или менее прилично: всем, дескать, не поможешь и всей массы бедности не устранишь! Но понятно, что это — только отговорка, на которую возможен один ответ: пробуй, делай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня там, где нужен хлеб». (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 6. — М.: Из-во «Правда», 1988. С. 318).
Если один мужик двух генералов прокормил, то неужели два генерала не могут прокормить одного мужика. Но тут не благотворительность нужна, а нужен народ, организованный в государство, чтобы не клянчить хлеб у богатых, а чтобы взять его у богатых и накормить голодных. «Долой благотворительность голодным, — писал Андрей Платонов. — Да здравствует законодательство, сознание и беспощадность к сытым». (Красный Платонов. С. 236).
Благотворительность — это способ успокоить нечистую совесть. Как говаривали люди вроде дедушки Данилы Прохорова, который в молодости с кистенём на большой дороге промышлял, в молодости много бито-граблено, в старости надо бога молить. Вот и наши нынешние прохоровы замаливают свои грехи девяностых годов, которые использовали гораздо более «цивилизованные» способы отъёма денег у граждан, чем архаичный кистень. Но результат тот же самый: опять же бедные и опять же богатые. А благотворительность теперь называется социальный бизнес, когда народу в той или иной форме возвращается часть того, что у него было отнято, — этакий «трансфер».
Народ должен рассматриваться не как презираемый и призераемый, а как борющийся за свои права. И вся современная либеральная пропаганда этого никак не хочет. И как они сокрушаются по поводу того, что царь оплошал и вовремя не вызвал верные ему войска с фронта, чтобы навести «порядок» в Петрограде. И им нисколько не жалко тех людей, которых царь пострелял бы, как не жалко и тех, 150 человек, которых царь угробил 9 января 1905 года. Как заявила одна либеральная прокурорша, царь всего лишь «навёл порядок», — расстрелял мирную демонстрацию. И чего же вы хотите после этого от народа. И всё-таки прав тот солдатик, который на упрёк Бунина, что они расстреливают противников Советской власти, ответил: Вы нас 300 лет расстреливали. Ненависть рождает только ненависть.
И великая правда искусства и литературы в том, что народ в ней выступает как самостоятельный субъект истории. «Если многие прозаики
20-х годов, — писал Владимир Васильев, — да и некоторые теперешние, понимали историю в лице масс как сырой материал для лепки всякого рода „жизненных” фигур — все эти пролеткульты, ЛЕФы, конструктивисты и прочие, то М.Шолохов и А.Платонов увидели в революции полное и свободное самовыражение народа и его представлений о счастье. В „Тихом Доне” и повести „Сокровенный человек” есть и комиссары, и белая гвардия, но это обстоятельство не мешает ни Григорию Мелехову, ни Фоме Пухову думать и поступать бескорыстно и „по своей воле”». (Васильев В. Андрей Платонов. — М.: «Современник», 1990. С. 109).
Величие «Тихого Дона» в том и состоит, что народ, казачество, сам принимает решение, за кого и за что ему бороться. И даже тогда, когда идеологи и власти подсказывают народу цель и смысл его борьбы, он всё равно принимает решение самостоятельно, хотя, понятно, может и ошибаться. Один интеллигент сказал, что все бедствия нашего народа от того, что он не слушал интеллигенцию. Да, что бы с ним было, если бы
он её послушал… Вот послушали «интеллигента» Чубайса и «интеллигента» Ельцина и… попали в капкан. Хотя послушал их опять же не народ заводов и фабрик, сёл и деревень, а та же московская и ленинградская интеллигенция, которая жаждала свободы самовыражения, а получила такое «выражение», от которого она сама теперь не знает, как упасти своих детей. А низовой народ не принял в событиях 1991—93 годов никакого активного участия. А вот в 1917 году народ не безмолствовал.
Но то, что историю делают не бог, не царь и не герой, это понимали не только марксисты-большевики. Это, скажем, понимал, Лев Николаевич Толстой. Может быть, он принизил несколько роль великого русского полководца М.И.Кутузова. Но его мудрость, как полагал Толстой, состояла в том, что он позволял событиям развиваться по их собственной логике и понимал, что война против Наполеона это война народная, отечественная. Либеральные писатели вроде Николая Бердяева уличали Толстого в «народолюбии». Почему любить свой народ это «грех», никто,
в том числе и Бердяев, не объяснил. Но расхождение между демократией и либерализмом проходит именно по этой линии, по отношению к низовому народу. Толстой был демократом, мужицким демократом.
Он не был революционером, потому что был против всякого насилия.
Но он и не обзывал, как Достоевский, всех революционеров «бесами».
В его романе «Воскресение» Катюша Маслова именно у революционеров находит приют и человеческое отношение. И в этом сказался не только великий демократ, но и великий художник, который не мог поступиться правдой жизни. А правда жизни крайне диалектична, крайне противоречива: она и та и эта. А у Достоевского только «та». Народа у него вообще нет, а есть одни только психически ненормальные интеллигенты.
Теперь правящая «элита» призывает нас к единению. Они получили своё, и теперь это всё надо как-то легитимизировать. Правители всех времён и народов всегда призывали к этому свой народ: они хотят, чтобы народ был един и… стоял горой за них. А расколола наш российский народ, говорят они, Октябрьская революция. Давайте, продолжают,
забудем старые обиды и все дружно встанем за Святую Русь… И главный проповедник призывает российский народ к примирению,
но в то же время в своих проповедях иезуитски клянёт всё советское,
то есть и меня, потому что моя родина Советская Россия, а не Россия Романовых и не Россия Ельцина и Гайдара.
Либеральные идеологи, которые прославляют «замечательные личности» бездарного царя, князя Львова, Рябушинского и т. д., забывая
о несчастном народе, точно так же преувеличивают значение в истории такой личности, как Ленин. Его наделяют буквально демонической силой: приехал в «запломбированном вагоне» и взял власть в свои руки, — пришёл, увидел, победил. Это, конечно, обычная пропагандистская чепуха. Но это не значит, что личность Ленина не имела никакого значения. Значение выдающейся личности, великой личности в истории, как это понимал уже Гегель, состоит в том, что эта личность угадывает направление движения Мирового Духа. А по-марксистски это значит, что человек схватывает основные противоречия в обществе и понимает пути их разрешения, он понимает потребности народа, умеет их выразить и дать народу лозунг и направление его действий. И народ должен быть для этого готов. Должна сложиться революционная ситуация: низы
не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-новому. И это верно и для Февраля, и для Октября. И Ленин «победил» в октябре
17-го года, хотя прибыл в Петроград ещё в апреле того же года.
Говорят большевики распропагандировали народ вопреки его собственным потребностям. Но выдающимся «пропагандистом» был и Керенский, и в его руках был государственный пропагандистский аппарат, а народ за ним не пошёл, народ от него отвернулся так же, как и от царя. И у них никакого другого выходя не было, как уйти. И они ушли,
их «ушли». Так решила история, так решил народ. Но решение подсказали большевики во главе с Лениным.
Можно проклинать судьбу, можно проклинать нашу несчастную историю, как это делал Пётр Чаадаев. Можно проклинать даже «большевиков». Но нельзя проклинать свой народ, который в 17-м году пошёл почему-то за большевиками. Почему? — Вот это и надо понять. Задача мудрого, как учили нас древние греки, не плакать и не смеяться, а понимать.
Но чтобы объединяться, говорил один умный человек, надо сначала размежеваться. Это раньше у нас было два дружественных класса, рабочий класс, колхозное крестьянство и еще «прослойка» — советская интеллигенция. А вот теперь эта самая интеллигенция не хочет быть «прослойкой», она явно хочет быть «элитой» и иметь соответствующий её статусу уровень жизни. Как живут самые нищенские 20% нашего несчастного общества, их мало волнует. И они уже не ставят, как Станиславский и Немирович-Данченко пьесу Горького «На дне», а всё ломают какую-то комедь непонятную…А потом жалуются Путину, что приходят
в театр какие-то православные люди и учиняют погром. И это две стороны одной и той же медали — нашей явно загнивающей культуры.
Конечно, как говорят, худой мир лучше хорошей ссоры. Но чтобы мириться и объединяться, надо, как минимум, сказать Правду. А какая
же в том правда, что Октябрьская революция расколола общество? Было как раз с точностью до наоборот. Общество сначала раскололось,
а уже потом случилась революция. И раскололось оно не до Октября,
а еще до Февраля. А ещё раньше до 1905 года. Можно и дальше продолжать. Но ходить так далеко нет нужды. И не только революция следствие раскола общества, но и контрреволюция. И 1991-й, и побоище 1993 года тоже следствия раскола. И если говорить о единении, то надо говорить о единении уже после раскола 1993-го года. А вы, господа хорошие, об этом тихо помалкиваете, как будто и ничего не случилось в нашем благословенном обществе. Сначала народ ограбили, а теперь говорят: давай мириться.
И расстройство экономики тоже приписывают Октябрю. И здесь всё наоборот. Зависимость здесь опять-таки обратная: революция явилась следствием расстройства экономки и государственного управления.
А общее правило таково: от хорошей жизни революции не происходят. Такого никогда и нигде не было.
Высшая точка развития российской экономики до Революции — 1913 год. В течение войны промышленное производство, кроме военного и сельского хозяйства, падало и в 1917 году составляло 64,5%
от уровня 1913-го. Средняя зарплата упала до 53,9%. Производство вооружений росло до 1916 года. Но в 1917-м и оно упало. А зарплата и в военной отрасли упала до 74,8%.
С сельским хозяйством дело обстояло несколько иначе. В целом оно не падало, но крестьяне стали придерживать продукты для собственного потребления. Продуктовый рынок сужался. «Однако, — как пишет Р.А.Белоусов, — в 1917 году общая экономическая конъюнктура круто ухудшилась по всем параметрам. Как показало будущее, начавшийся спад удалось остановить только в 1921—1922 годах». (Белоусов Р.А. Экономическая история России: ХХ век. Книга 1. — М., 1999. С. 331).
В 1922 году начинается восстановление промышленности. И в 1927 году был восстановлен уровень 1913-го. То есть, если брать от 22-го года, то всего за пять лет. Это сделали большевики. А либералы за более чем 25 лет после прихода к власти ничего подобного не смогли сделать, и «заграница» им не помогла. Но число олигархов, генералов и академиков росло по экспоненте.
В общем, это достаточно известные вещи. Но если извращается очевидное, то за этим очевидно кроются какие-то морально-идеологические соображения. Какие? — Умный поймёт. А либеральным идеологам говорить об этом бесполезно: им все божья роса…
Раньше мы отмечали, что морально-политическое единство советского народа явилось одним из условий победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—45 годов. И это после всех конфискаций, раскулачиваний и посадок. И говорят, было два события
в XX веке, когда население Советского Союза было подлинно единым народом, — это когда после Победы 9 мая весь народ вышел на улицы Москвы и других городов и праздновал победу, а ещё когда Гагарин полетел в космос, — никто никого не выгонял, не призывал, а люди сами все вышли и торжествовали. Потом были, правда, ещё Целина, БАМ,
но это был уже ответ на призыв Партии и Комсомола, хотя и здесь был энтузиазм не совсем казённый.
Истинная мудрость состоит в том, чтобы принять то, что есть, понять, что в этом есть исторический разум и смысл. Именно таким мудрецом оказался Алексей Фёдорович Лосев, который остался в Советской России и не уехал ни на каких «философских» пароходах, которого и Беломорканал не сломал и не озлобил. Родину и свой народ надо любить
не только тогда, когда они преподносят одни приятности, но когда с тобой поступают и не всегда справедливо. Понятно, что вынести это
не каждому под силу. Но тем больше чести тому, кто прошёл через все испытания и остался верен себе и своей Родине.
Мы показали, что не Революция разрушила экономику России,
её разрушила война, затеянная царской камарильей. Для сравнения: уже к 1943 году советская промышленность нарастила производство вооружений и по выпуску основных его видов мы догнали Германию. Царская Россия за все годы войны только отставала и практически проиграла войну. И когда нам говорят теперь про высокий моральный и боевой дух русского воинства, то он поначалу был, но быстро выветрился, когда солдатики поняли, что их интереса в этой войне никакого нет.
А те фронтовики, которым случалось бывать в Петрограде, могли видеть через витринные стекла ресторанов и всяческих борделей, как гуляет буржуазия. И солдатики, сидя в сырах окопах, проклинали царицу-немку и полуграмотного Распутина, который смещал и назначал царских министров.
Вот как описывает «высокий» моральный дух столичного общества
в годы перед войной — это время с 1908 по 1912 год — Корней Чуковский. «Обычно, — пишет Чуковский, — вспоминая об этом, говорят
о правительственном терроре, о столыпинских виселицах, о разгуле чёрной сотни и т. д. Всё это так. Но к этому нужно прибавить страшную болезнь вроде чумы или оспы, которой заболели тогда тысячи русских людей. Болезнь называлась: опошление, загнивание души, ибо наряду с политической реакцией свирепствовала в ту пору психическая;
она отравила умы и чудовищно искалечила нравы. Тяжелее всего поразила она так называемых „культурных людей” — тех самых, кого в девятьсот пятом году взметнуло кверху революционной волной, а теперь бросило в глубь обывательщины — к „мелким помыслам, мелким страстям”. Никогда ещё обширные слои интеллигенции не были так оторваны от народных интересов и нужд:
Отбой, отбой!
Окончен бой! —
На все лады повторяли они про революцию девятьсот пятого года». (Чуковский К. Современники. Портреты и этюды. — М., 1962. С. 386).
И ещё одно свидетельство современника. Это и современник и очевидец того, что она собой представляла, эта «культура», автор «Хождения по мукам» — Алексей Толстой: «Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью… В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнажёнными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной ещё роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.
В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Всё было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражён дворец… Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.
То было время, когда любовь, чувства и добрые, и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.
Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утончённости. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.
Таков был Петербург в 1914 году».
Знакомая картинка! И чем Сашка Сакельман не Березовский?
Но Корней Чуковский и Алексей Толстой это писатели, перешедшие
в советское подданство. И это, понятно, может вызывать недоверие
к их словам. Но вот что писала в 1916 году эмигрантка Зинаида Гиппиус, ненавидевшая и Советскую власть и Алексея Толстого: «Поражения на войне… Царь по настоянию Распутина и царицы делается главнокомандующим и каждую минуту из ставки мчится в Царское, к Распутину… Ещё бы Распутину не настаивать на отставке первого главнокомандующего, Вел. Кн. Николая Николаевича, когда тот на запрос Григория, не может ли он приехать в ставку, ответил кратко: «Приезжай, повешу». Зима 15/16-го года «впятеро тяжелея и дороже прошлой». Но интеллигенция как-то осела, примолкла, точно правительство и впрямь достигло желанного „успокоения”. Но в воздухе чувствовалась особенная тяжесть, какая-то „чреватость”». (Мережковский Д.С. 14 декабря, Гиппиус-Мережковская З.Н. Дмитрий Мережковский. Роман. Воспоминания. — М.: Московский рабочий, 1991. С. 453).
Конечно, когда царица и Распутин «назначают» царя главнокомандующим, то есть от чего прийти в отчаяние. Царя, которого больше беспокоили не дела на фронте, а то, что дети заболели корью, и жена дома скучает без него…
И Временное правительство не смогло консолидировать общество и поднять боевой дух русской армии. И вот как об этом писал последний поэт русской деревни Сергей Есенин:
Свобода взметнулась неистово
И в розовосмрадном огне
В стране в это время калифствовал
Керенский на белом коне.
Война до конца, до победы
И снова сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняют на фронт умирать
Но я не взял свою шпагу
Под грохот и рёв мортир
Другую явил я отвагу,
Был первый в стране дезертир...
Кстати, в начале войны совсем ещё юный Сережа, как и многие русские люди, испытал патриотический угар:
Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне.
Не ревите, мать и тётка,
Слезы сушат удальца.
Подарила мне красотка
Два серебряных кольца.
Эх, достану я ей пикой
Душегрейку на меху.
Пусть от радости великой
Ходит ночью к жениху.
Но мечта о душегрейке на меху, которую Серёжа хотел содрать с какой-нибудь немки, быстро развеялась, и теперь он мечтал как-нибудь удрать с этой войны. Сам Серёжа никаким дезертиром не был, и
на фронте он не был. Он удачно как-то пристроился при санитарном поезде. Но если бы он и был дезертиром, то не первым и не последним. Дезертирство было массовым. В феврале 18-го года фронт оказался открыт на Петроград. И только Красная Гвардия и наскоро сформированные из добровольцев из остатков бегущих с фронта полков части смогли остановить немцев под Псковом и Нарвой. Это стало днём рождения Красной Армии, но и этот праздник нынешние правители у народа отняли. И это, видите ли, чтобы не было разделения в народе. А кто из народа что-то имел против Красной Армии? — И ведь эта армия спасла наш народ от гитлеровского порабощения и освободила Европу от коричневой чумы. Но вот это, вроде бы, и либералы, стиснув зубы, признали. Но то, что Красная Армия рождена Революцией, об этом молчок. И день её рождения отменили как государственный праздник. Это какое-то двурушничество.
Либералы и Победу советского народа в Великой Отечественной войне сначала не признавали и считали, что лучше бы Гитлер победил: сейчас пили бы замечательное баварское пиво. Но это уже слишком подло и гнусно. И теперь наоборот: либералы обвиняют Советскую власть в том, что та недостаточно прославляла нашу Победу. Антисоветизм сейчас это основное оружие либеральной пропаганды, в которую активно включился и глава РЦП, который совершенно не по-христиански поносит советский народ. И это понятно, потому что это единственный способ доказать, что нынешняя грабительская система лучше советской. Но вот загвоздочка: в Великой Отечественной войне победил тот же народ, который победил в Гражданской. И в Красной Армии было мало таких, которые считали, что в Гражданской мы зря победили.
Бисмарк в своё время сказал, что в битве при Садовой победил немецкий учитель. В битве под Сталинградом тоже победил советский учитель. Победили молодые лейтенанты, вчерашние школьники, воспитанные на славных революционных традициях русского народа.
А в значительной части это были те же люди, которые сражались с Деникиным, Колчаком и Врангелем. И даже полководцы те же самые — Рокоссовский, Конев, Жуков и т. д., герои и участники Гражданской войны. Это тот же народ. Русский, потом Советский. И как можно разделить этот народ на тот, который сверг царя, а потом опрокинул Врангеля в Чёрное море, и на тот, который победил в Великой Отечественной войне. Это бессовестная ложь и либеральная пропаганда. И никакой исторической правды в этом нет ни грана.
Каждый год французы празднуют 14 июля, день взятия Бастилии.
И эту дату отмечает всё прогрессивное человечество. Старик Гегель, которого считают идеологом королевско-прусской монархии, отмечал этот день бокалом любимого белого вина и называл Французскую революцию Великолепным восходом Солнца. И, несмотря на все последующие пертурбации, все символы Великой французской революции, гимн, флаг, орден Почётного легиона, остаются символами нынешней Французской республики, уже, кажется, Четвёртой. И французы гордятся своей историей. Мы же отреклись от всех революционных традиций. Не только от Октября, но и от Февраля. И не только от Февраля, но и от народовольцев, и от Герцена, и от декабристов, которые «разбудили» Герцена. Говорят, не надо было его будить. А что нам от истории тогда остаётся? Романовы? Достоевский с Победоносцевым? Православие, самодержавие, народность? Но в эти одежды сейчас рядиться так же смешно, как было смешно, когда славянофил Аксаков оделся так по-русски, что москвичи принимали его за персиянина. Вот и сейчас эти «персияне» все изобретают «русскую идею». И Путин замечательно предложил национальную идею: борьба с коррупцией. А я бы предложил им ещё одну национальную идею: у нас нет детей-сирот. И это действительно могло бы сплотить и объединить народ. А ведь с сиротством в нашей стране боролся, и успешно, Железный Феликс, которого хулиганы повалили, и им наплевать, что это творение Вучетича. И это
не только символ Революции, но и наше культурное наследие.
Гегель не одобрял террор Французской революции. Понятно, кому понравится изобретение доктора Гильотена? Но вот что он писал
о французских идеологах, подготовивших революцию. «Нам легко делать упреки французам, — отмечал Гегель, — за их нападки на религию и государство; нужно представить себе картину ужасного состояния общества, бедственности, подлости, царивших во Франции, чтобы понять заслугу этих философов». (Гегель. Лекции по истории философии. Книга третья. — СПб., 1994. С. 447). И далее картина бедствий и подлости этого общества:
«Бесконтрольнейшее господство министров и их девок, жён, камердинеров, так что огромная армия маленьких тиранов и праздношатающихся рассматривала как своё божественное право грабёж доходов государства и пользование п`отом народа. Бесстыдство, несправедливость достигали невероятных пределов, нравы только соответствовали низости учреждений; мы видим бесправие индивидуумов в гражданском и политическом отношениях, равно как и в области совести, мысли». (Там же).
Та же картина, что и в России. Но Французское Просвещение, подготовившее революцию, дало таких гигантов мысли, как Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций и др., которых человечество знает до сих пор и будет знать на многие века вперед. А наш «серебряный век» дал таких философских охранителей, как Бердяев, Булгаков и ещё сексуально озабоченный Василий Розанов, кредо которого: «Я не хочу истины, я хочу покоя».
Вот и А.Ципко захотел мещанского покоя. Он бичует секту «хмурых» и «агрессивных» и поёт мещанскую песенку: «Величайшее благо, дарованное человеку, — сама по себе жизнь, её мирное движение от детства к старости со всеми человеческими радостями и заботами — воспринимается левыми радикалами как рутина, обыденность, как нечто недостойное». (Цит. по:Новые «кумиры» и «старые» авторитеты. — М., «Советская Россия», 1990. С. 87).
У Андрея Платонова есть такой персонаж, машинист Пухов. Он прослыл «жестоким человеком», потому что он на гробе своей жены колбасу резал. А почему он резал колбасу на гробе жены, — да потому что в его убогом жилище даже стола не было, на котором можно было бы порезать колбаску и помянуть любимую жену. Так вот те «хмурые» и «агрессивные», которых «бичует» и учит жить Ципко, наверное, не так же счастливы, как Ципко, который сделал стремительную карьеру по комсомольской и партийной линии и получил квартиру в фешенебельном доме на ул. Димитрова, о чём поведали «Аргументы и факты», № 37 за 1990 год. Статья называлась «Кто в тереме живёт?». Так вот, в «тереме», оказывается, живёт не только мышка-норушка, но и «консультант ЦК КПСС» А.Ципко.
Так вот, всё, о чём мечтал юный Ципко, осуществилось. Но почему
же он до сих пор не живёт спокойненько и на всех возможных площадках кричит с пеной у рта, зачем раскулачили его бабушку и вычистили
из органов его мелкобуржуазного перерожденца дедушку. Когда он поступал в комсомол, а потом в партию, он, наверное, в анкете такого про дедушку и бабушку не писал, а писал, наверное, что его дедушка был чекист с холодным умом и горячим сердцем, а бабушка ударницей-колхозницей. А народ до сих пор недоумевает, почему двадцатимиллионная КПСС в одночасье прекратила своё существование, — она просто переродилась, как переродился дедушка Ципко, а потом сам Ципко,
из «коммуниста» в пещерного антикоммуниста.
В учении о цивилизациях-культурах Освальда Шпенглера, несмотря на ложную натуралистическую методологию, много правды: всякая цивилизация, достигнув высшей степени зрелости, начинает клониться
к закату. Вот и общество «зрелого социализма» у нас, наверное, перезрело и было готово, как перезревшая груша, свалиться и разбиться
в дребезги. Но фатализм Шпенглера не оправдался даже относительно Западной Европы, которая, по Шпенглеру, уже с середины XIX века начала «перезревать». Она, правда, потом свалилась в Первую vировую войну, потом во Вторую, но… не погибла, а претерпела некоторое обновление и пока ещё продолжает развиваться. Вот и нам требовалось обновление. Серьёзное, радикальное, но… для этого не нашлось здоровых сил, прежде всего, в партии и её руководстве. Нас поразил упадок духа, двоемыслие, двоедушие, любовь к комфорту, к хрусталям, мебелям и норковым шубам. А кубинцы нашли в себе силы сохранить социалистический идеал, и китайцы нашли, потому что имели мудрых и авторитетных руководителей и не привыкли к комфорту.
Зрелая культура, по Шпенглеру, превращается в «цивилизацию»,
то есть во что-то формальное, окостеневшее. В начале XX века в моду входит дарвинизм, — не потому, что это наука, а потому, что из этой «науки» можно обосновать буржуазный индивидуализм. «Например, — писал Андрей Платонов в 1920-м году, — из дарвинского учения о выживании приспособленных, о непримиримой борьбе за жизнь в животном царстве буржуазная мысль уже делала тот вывод, что борьба личностей, индивидуализм, в человечестве необходимое, даже хорошее явление». (Красный Платонов. С. 111—112). И в это же время появляется пристальное внимание к проблемам пола. Как писал Саша Чёрный,
Проклятые вопросы
Как дым от папиросы
Рассеялись во мгле.
Пришла проблема пола,
Румяная Фефёла… и т. д.
Именно упадок духа, как полагает Платонов, порождает у буржуазии гипертрофию полового чувства: «Пол — душа буржуазии». (Там же,
С. 120). Но именно поэтому люди потеряли настоящую душу. «Найдя благо в половом чувстве, люди окаменели». (Там же. С. 125). Недаром
в 20-е годы в моду входит фрейдизм, который даже новорождённому ребёнку приписывает «сексуальность», и что он только об одном и мечтает, как изнасиловать свою мать и убить своего отца.
Буржуазия, как писал Платонов, как бы вся выросла в один орган… Но этот «орган» не может быть органом труда и сопротивления. Человек теряет волю к свободе, к социальной справедливости, к социальному равенству. Человек становится покорным любым властям, лишь бы она не мешала ему потакать своему «основному инстинкту».
Сто лет срок большой. За это время родились и сошли в могилу
не менее трёх поколений людей. И если в четвёртом колене люди
не только часто не знают своих дедов и прадедов, но и живут совсем иначе, то это не значит, что сто лет назад люди жили так же скучно, как нынешние обыватели. И если человек постарел и поглупел, то это
не значит, что он никогда не был молодым и весёлым.
В заключение хочется сказать следующее. В своём презрении к «народу» и «марксизму» либералы смыкаются, как это ни странно, — с фашизмом. Вот что писал по этому поводу Адольф Гитлер в своём «Mein Kampf»: «Еврейское учение марксизма отвергает аристократический принцип природы и ставит на место вечной привилегии могущества и силы численность массы, её мёртвый вес». «Марксизм представляется химически-чистой попыткой еврея изгнать из всех областей человеческой жизни преобладающее значение личности и заменить её численным весом массы». (Hitler A. Mein Kampf. 10 Aufl. — Munchen, 1932.
S. 39—40, 64—70, 498—499 и др.). Марксизм действительно отводит решающую роль в истории «численому весу массы», но это не значит, что он тем самым отрицает значение личности.
Версия для печати