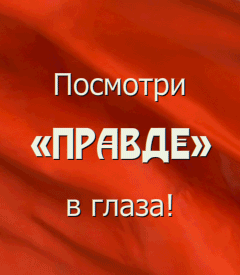Е.А.Соколова, С.Д.Жудро Агрессивно-экспансионистская политика панской Польши в межвоенный период и значение пакта Риббентропа — Молотова
СОКОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси (Республика Беларусь, г. Минск); ЖУДРО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — делегат VI Всебелорусского народного собрания, ведущий специалист мобилизационного отдела Оршанского объединённого районного военного комиссариата, капитан запаса (Республика Беларусь, г. Орша).
Геополитическая обстановка остаётся сегодня крайне тревожной и пугает нарастающим витком эскалации напряжённости. Англосаксонские политические «элиты» и официальная Варшава по аналогу межвоенного периода являются катализатором обострения военно-политической ситуации как в Европе, так и в мире в целом. Запад по-прежнему не снимает с политической повестки дня абсурдную цель нанести стратегическое поражение России, в последующие месяцы он продемонстрировал приверженность агрессивному курсу. Более того, западно-натовская коалиция продолжает расширять масштабы кровавого сценария на Украине, и, к сожалению, реальные шаги к миру не просматриваются. В свою очередь, Вашингтон, чтобы сохранить незыблемым своё доминирующее положение в мире, использует арсенал радикальных сценариев и механизмов и готов развязать военный конфликт глобального масштаба. Сегодня очевидно, что Запад стремится взять реванш за поражение во Второй мировой войне. Метастазы неофашизма всё шире и шире распространяются на европейском пространстве. Экономика стран Запада поставлена на военные рельсы, развёрнута беспрецедентная по масштабам милитаризация. Западные ястребы открыто говорят о подготовке к новой большой войне.
На европейской политической карте воинствующе заявляет о себе Британия, демонстрируя желание восстановить статус тяжеловеса в европейской и мировой политике. Не могут не настораживать и заявления официальных лиц Германии, отражающих их нескрываемое желание к возрождению военной мощи страны. Исключительно агрессивным курсом продолжает следовать официальная Варшава. Польское руководство, загипнотизированное мифической возможностью реализации своих заоблачных имперских амбиций, опрометчиво продолжает проводить американские интересы в Европе и укреплять стратегическое сотрудничество с США. Польский правящий пул последовательно проводит линию, направленную на превращение европейского континента в постоянный очаг напряжённости. Опираясь на исключительные американские преференции и цинично используя горячую фазу в жёстком противостоянии Запада с Россией, Польша стремится стать одним из мировых центров силы и полноправным хозяином в восточноевропейском регионе. Правящая верхушка Польши в который раз в своей истории не просчитывает последствия радикальных заявлений и действий для своей страны.
Сегодня Запад под эгидой США, предав забвению уроки истории, сознательно дублирует чудовищные постулаты директив Третьего рейха. В развязанной против нас гибридной войне западно-натовская коалиция откровенно преследует цель изменить наши мировоззренческие ориентиры, культурно-исторический код, ослабить и разобщить славянские народы, порознь включить их в западное политическое про-
странство. Искажение исторической правды, фальсификация политических событий межвоенного периода, Великой Отечественной и Второй мировой войны уже давно стали базисным стержнем государственной политики стран Запада. Западные политические «элиты» одержимы желанием принизить вклад советского народа в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии, пересмотреть все послевоенные политические решения с участием СССР и обнулить решения Международного Нюрнбергского трибунала.
Особое место в западной пропаганде отведено лживой интерпретации пакта Риббентропа — Молотова. Дата подписания договора между СССР и Германией от 23 августа 1939 года представляется как день начала Второй мировой войны, а 17 сентября 1939 года — трактуется как вторжение СССР на территорию Польши. Польские официальные лица преподносят события 17 сентября 1939 года как широкомасштабный процесс оккупации их восточных земель, тиражируя как мантру: «Сталин и Гитлер делили Польшу». Подобная тенденция направлена на размывание генетического кода молодого поколения, на внедрение в сознание мировой общественности антиисторической концепции о равнозначности внешней политики СССР и нацистской Германии, что не соответствует объективным фактам и вступает в противоречие с решениями Нюрнбергского трибунала.
В связи с этим представляется целесообразным напомнить объективные факты политической истории межвоенного периода, акцентируя внимание на откровенно враждебных действиях в отношении Советского Союза англосаксонского альянса и руководства панской Польши, ввергнувших мир в пучину Второй мировой войны. Следует отметить, что на Парижской мирной конференции, подводившей итоги Первой мировой войны, в соответствии со ст. 231 Версальского договора, Германия объявлялась единственным виновником в развязывании мировой трагедии, лишалась суверенитета в области внутренней и внешней политики. Ключевым вопросом у «архитекторов» нового миропорядка был «русский вопрос». В свою очередь, поставленной на колени Германии отводилась роль ударной силы против России. Как справедливо отмечал немецкий историк А.Хилльгрубер, мировой порядок 1919–1920 годов возводился на сбалансировании интересов Англии, Франции и США. (См.: Фалин В.М. Второй фронт: Антигитлер. Коалиция: конфликт интересов. — М.: Центрполиграф, 2000. С. 16).
При этом парижские «миротворцы» были едины в стремлении реализовать стратегическую цель — уничтожить Россию в любой форме её государственности, лишить субъектности в европейской и мировой политике. У.Черчилль в своих воспоминаниях обращает внимание, что в наказание за разрыв с Антантой и своевольный выход из войны с Германией в ноябре 1917 — марте 1918 года, её вообще вытолкнули за борт, поставили вне закона. России, являвшейся на протяжении веков субъектом права и одним из столпов европейского и мирового порядка, назначили стать объектом, поделённым бывшими союзными державами на «сферы действия». Именно Черчилль выдвинул радикальный тезис и потребовал «усмирить революцию войной», «отгородить Советскую Россию от Западной Европы кордоном неистово ненавидящих большевиков государств». Верховный совет Антанты принял решение о вооружённом вмешательстве в российские события.
Уже 23 декабря 1917 года была утверждена конвенция о разделе России на «сферы действия». Англичанам вверялся Кавказ, казачьи области на Дону и Кубани плюс прикаспийские регионы. За французами закреплялись Белоруссия, Украина, Крым, а за Соединёнными Штатами — Сибирь и Дальний Восток.
В свою очередь, агрессивная позиция США против России была обозначена в представленной президентом США В.Вильсоном конгрессу
8 января 1918 года «Программе мира». За оптимальную модель решения «русского вопроса» принималось расчленение бывшей Российской империи на ряд отдельных государств и территорий, зависимых от заграницы, и предлагалось ввести опекунство над внутрироссийскими «демократическими силами».
Парижский форум таким образом в своих политических решениях заложил фундамент кровавых очагов напряжённости, ввергнувших мир во Вторую мировую войну.
В соответствии с поставленными геостратегическими задачами англосаксы в кратчайшие сроки создали самый благоприятный ландшафт для преодоления Германией политических барьеров, а колоссальная финансовая помощь обеспечила быстрый подъём немецкой экономики. США, отказавшись от ратификации Версальского мирного договора,
25 августа 1921 года подписали двусторонний мирный договор с Германией, ставший для неё стартовой площадкой выхода из политического тупика, а вскоре и из экономического коллапса. (См.: там же. С. 20).
Уже в 1924 году на Лондонской конференции был принят план Дауэса, у истоков которого стояли США. Автором плана являлся американский банкир, руководитель международного комитета экспертов Чарлз Гейтс Дауэс. Германия получила около 30 млрд. золотых марок, что позволило значительно оживить её экономику. В 1924—1929 годах вдвое вырос объём промышленного производства, к тому же на новой научно-технологической основе.
Финансовые субсидии позволили Германии к концу 1920-х годов по росту производства выйти на первое место в Европе и второе место в мире (после США). В 1929 году план Дауэса был заменён планом Юнга — «50-летним планом репараций». Названный в честь Оуэна Юнга, президента правления «Дженерал электрик», этот план предоставлял максимальные льготы Германии. Общий объём репараций значительно сокращался (до 114 млрд. золотых марок), а промышленность освобождалась от репарационных выплат. В 1932 году план Юнга и репарации были отменены. Германия из обозначенных Версальским договором 132 млрд. марок выплатила не более 20 млрд. марок.В сжатые сроки был воссоздан экономический и военно-промышленный потенциал, обновлена производственная структура, создана мощная военная промышленность, способная в огромных количествах производить вооружение: танки, самолёты, артиллерийские орудия, военно-морские корабли новых типов.
Уже в октябре 1925 года на полях Локарнской конференции при активной поддержке Великобритании состоялась политическая реабилитация Германии. Немецкие представители получили приглашение вступить в Лигу наций, а глава британского МИД Чемберлен как миротворец стал кавалером ордена Подвязки и лауреатом Нобелевской премии мира.
В конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века уже стали весьма очевидными опасные очаги напряжённости как в Европе, так и в мире. С приходом к власти в Германии в 1933 году Гитлер приступил к реализации концепций установления «нового порядка» в Европе, завоевания «жизненного пространства» на Востоке, пересмотру в пользу Германии колониального раздела мира. Это были откровенные претензии на установление мирового господства. Б.Муссолини в 1925 году заявил о создании Итальянской империи, превращении Средиземного моря в «итальянское озеро». На Востоке источником опасности для мира стала Япония. В столь сложной международной обстановке развитие событий в Европе и в мире во многом зависело от позиции Великобритании. Но английская правящая верхушка лелеяла надежду использовать Третий рейх как орудие борьбы против СССР и искала пути сближения с нацистской Германией. Здесь их интересы совпадали.
Как отмечает в своей работе «Дипломатия» Генри Киссинджер, англосаксонская политика была действительно чётким отражением первоочередных задач Гитлера: от Великобритании он желал невмешательства в дела на континенте, а от Советского Союза он хотел приобрести Lebensraum, то есть «жизненное пространство». (См.: Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. В.В.Львова; Послесл. Г.А.Арбатова. — М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», ТОО «ВРС», 1997. С. 298). Многоформатная англосаксонская поддержка стала жизнеобеспечивающей артерией для укрепления политического влияния и экономической мощи нацистской Германии.
15 июля 1933 года был подписан «пакт согласия и сотрудничества» — первый международный акт с участием нацистской Германии. Данный пакт, инициированный Италией, подписали Великобритания и Франция. Гитлер был введён в круг политических «элит» Запада. Соответственно, «пакт четырёх» правомерно считать репетицией Мюнхенского сговора. (См.: Фалин В.М. Второй фронт: Антигитлер. Коалиция: конфликт интересов. — М.: Центрполиграф, 2000. С. 39).
С этого времени англосаксонская близорукая поддержка нацистской Германии приобрела системный характер, при этом неизменно сохранялась их геостратегическая цель — направить германскую агрессию против Советского Союза. «Чтобы жила Британия, — провозглашал Чемберлен, — Советская Россия должна исчезнуть». (Цит. по: Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны / 2-е изд., дораб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1989. С. 121). Комментируя состоявшийся «пакт четырёх» английский политик лорд Ллойд Джордж отметил: «Мы предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширит корейско-маньчжурскую границу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири... Мы предоставим Германии свободу вооружения... Мы откроем Германии дорогу на Восток и тем самым обеспечим столь необходимую ей возможность экспансии. Таким образом можно будет отвлечь от нас Японию и Германию и держать СССР под постоянной угрозой». (Цит. по: там же. С. 19).
Антисоветские настроения отражались и в английской реакционной прессе. Так, журнал «Эрплейн» писал: «Надо ... послать пару авианосцев в Балтику и бомбардировать до уничтожения форты в Кронштадте, крепости и заводы вокруг Ленинграда. Одновременно мы должны послать несколько авианосцев в Чёрное море и взорвать форты Севастополя... Мы должны также разрушить официальные здания, заводы и доки в Одессе и Ростове-на-Дону и в некоторых других местах». (Цит. по: там же. С. 21). К сожалению, нынешнее руководство англосаксонского альянса и Варшавы дублируют худшее из политической истории своих визави межвоенного периода. Правящие круги США также не скрывали своего враждебного отношения к СССР. Американский историк П.Томпкинс констатировал, что в США среди проповедников политики нейтралитета и изоляционизма было немало таких, которые «не хотели мириться с существованием Советского государства и которые в своей открытой надежде, что державы оси можно будет направить на восток, были готовы терпеть и даже поддерживать Гитлера и Муссолини». (Цит. по: Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной, 1939—1941 / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. — М.: ТОО «Новина», 1997. С. 33).
Уместно подчеркнуть, что максимальное увеличение производства оборонной продукции Третьим рейхом было результатом тесного сотрудничества с профильными англо-франко-американскими компаниями. С ведома своих правительств монополии Англии, Франции и США снабжали Германию военными материалами, а американские банки предоставляли гитлеровцам займы и кредиты, финансируя тем самым её подготовку к войне. Монополии США являлись совладельцами многих крупных предприятий в Германии. Поэтому немцы широко пользовались американскими патентами на производство многих изделий, имевших военное значение. Когда бывшему директору рейхсбанка Я.Шахту в 1945 году в тюрьме сказали, что германские промышленники будут привлечены к суду за вооружение Германии, он расхохотался. В таком случае, сказал он американскому офицеру, «вы должны судить своих собственных промышленников. Ведь заводы „Опель”, принадлежащие „Дженерал моторс”, работали только на войну». (Цит. по: Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны / 2-е изд., дораб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1989. С. 20).
В столь сложной обстановке СССР делал всё возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости.
В начале 1934 года в Европе наметилась возможность подписать многосторонний договор, статьи которого были бы направлены на реализацию сдерживания возможной агрессии со стороны Германии. Этот несостоявшийся договор вошёл в историю под названием «Восточный пакт». (См.: Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. — М.: Междунар. отношения, 1997. Т. 3. 1933—1941 годы / А.И.Байдаков, Л.И.Воробьёв, С.М.Голубев и др.; гл. ред. Е.М.Примаков. 1997. С. 263).
К сожалению, подписать и реализовать Восточной пакт не удалось. Вина, вне всякого сомнения, лежит на Польше, Германии и Великобритании.
Следует отметить, что прежде чем осуществить желанный для многих западных политиков поход на Восток, Гитлер начал активно укреплять свои политические позиции в Западной Европе. Германия демонстративно покинула в октябре 1933 года Женевскую конференцию по сокращению и ограничению вооружений, продемонстрировав всему миру вступление на путь войны, и в этом же году вышла из Лиги наций. В нарушение Версальского мирного договора в 1935 году после формального плебисцита, проведённого с молчаливого согласия Англии и Франции, Гитлер оккупировал Саар. В 1936 году последовал ввод немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область. Это были первые, но очень опасные шаги фюрера по пересмотру территориальных условий Версальской системы. Пользуясь благоприятным политическим ландшафтом, уже к концу 1937 года под эгидой Германии был создан мощный военно-политический альянс — «Рим — Берлин — Токио».
Военно-политическая обстановка продолжала накаляться, и в этом ключевую роль играла Великобритания.
В 1937—1938 годах прошли многораундные встречи представителей британского правительства с Гитлером. «Миротворцы» дали согласие на перекройку карты Европы в пользу Германии, были удовлетворены притязания Гитлера на Австрию, Чехословакию, Польшу и Мемельскую область Литвы. Политика умиротворения входила в горячую фазу.
19 ноября 1937 года во время встречи с Гитлером в Берлине глава британского МИД лорд Галифакс отметил, что «ошибки Версальского диктата должны быть исправлены». К удовлетворению фюрера англичанин заявил, что создана основа взаимопонимания между двумя державами, от коего не стоило бы отлучать Францию и Италию. «Хозяевами дома», подчёркивал Галифакс, должны были бы выступать эти четыре державы, и только они. (См.: Документы и материалы кануна Второй мировой войны, 1937—1939. В 2-х т. Т. 1. Ноябрь 1937 — декабрь 1938 [Сборник] / М-во иностр. дел СССР; Редкол.: А.П.Бондаренко и др. — М.: Политиздат, 1981. С. 38). Характеризуя проводимую Британией данную политику, Ллойд Джордж говорил 21 ноября 1937 года, что Чемберлен считает «самой важной задачей соглашение с Германией и Италией, ради которого он готов пожертвовать Испанией, Чехословакией и многим другим». Однако вскоре последовал «умиротворителям» весьма содержательный ответ Гитлера. В выступлении перед эсэсовцами 23 ноября 1937 года фюрер недвусмысленно заявил, что считает войну против СССР основной задачей, но борьбу за мировое господство следует начинать с нападения на Англию и Францию.
Пользуясь попустительством и прямым пособничеством со стороны англосаксонских и польских правящих «элит», Гитлер приступил к реализации зловещих планов по завоеванию «жизненного пространства». 12 марта 1937 года была оккупирована Австрия. Отметим, что только СССР резко осудил акт нацистской агрессии. Однако конструктивные предложения Советского Союза не нашли поддержки у западных держав. Более того, продолжающаяся англосаксонская политика умиротворения вплотную подвела Европу к Мюнхенскому сговору. Судьба Чехословакии была предрешена по итогам встреч Чемберлена с Гитлером 15 и 22 сентября 1938 года. (См.: там же. С. 204).
Трагическая сделка ХХ века с участием Германии, Италии, Великобритании и Франции состоялась в ночь на 30 сентября 1938 года, в результате которой Чехословакия как суверенное независимое государство и член Лиги наций исчезло с геополитической карты мира.
Англофранцузская позиция по чехословацкому вопросу была поддержана США. Бездействовала и Лига Наций.
Роковую роль в расчленении Чехословакии сыграла панская Польша, захватив Тешинскую область и два района Словакии.
Министр иностранных дел Польши Ю.Бек получил орден Белого орла за поддержку Германии в период Мюнхена. Нужно учитывать, что мощный военно-промышленный комплекс Чехословакии был поставлен на службу Третьего рейха. В руки Гитлера, как отмечал Черчиль, «…попали заводы „Шкода” — второй по значению арсенал Центральной Европы, который в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 года выпустил почти столько же продукции, сколько все английские военные заводы за то же время». (Цит. по: Черчилль У. Вторая мировая война [в 3 кн.]: сокращённый перевод с англий-
ского / Под редакцией А.С.Орлова. — М.: Воениздат, 1991. Кн. 1:
т. 1—2. С. 151).
Мюнхенский сговор резко изменил баланс сил в Европе в пользу Германии. Советский Союз в случае агрессии со стороны нацистской Германии мог рассчитывать только на себя. Обстановка в Европе и в мире продолжала обостряться. В начале 1939 года мир уже был у края пропасти.
В целях предотвращения развязывания уже очевидной глобальной катастрофы в апреле 1939 года Советское правительство предложило Англии и Франции заключить между тремя державами договоры о взаимопомощи. Но конструктивные советские инициативы не встретили поддержки. Западные страны по-прежнему уклонялись от каких-либо обязательств. Все их действия были направлены на то, чтобы столкнуть Германию и СССР.
На стороне англо-французского альянса были и США. Безрассудная политика англосаксонских и польских правящих кругов стала причиной срыва судьбоносных англо-франко-советских переговоров. Даже в преддверии неминуемой глобальной катастрофы польское руководство не вняло разуму.
18 августа на запрос главы французского МИД Ж.Боннэ о необходимости согласия польской стороны на пропуск советских войск в случае германской агрессии польский посол в Париже Ю.Лукасевич ответил, что «Бек никогда не позволит русским войскам занять те территории, которые мы у них забрали в 1921». (Цит. по: Мосли Л. Утраченное время: Как начиналась Вторая мировая война / Сокр. пер. с англ. Е.Федотова. [Предисл. канд. ист. наук, полк. П.Деревянко]. — М.: Воениздат, 1972. С. 301).
Мир продолжал стремительно скатываться к черте невозврата.
Значение англо-франко-советских переговоров для будущего Европы и мира объективно оценивает в своих дневниках начальник генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Ф.Гальдер: «Трудно поверить в пакт между англичанами и русскими, но это — единственная мера, которая теперь может остановить Гитлера». (Цит. по: Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны / 2-е изд., дораб. и доп. — М.: Междунар. отношения, 1989. С. 282). Уполномоченный И. фон Риббентропа при ставке Гитлера В.Хевель приводит знаковое высказывание фюрера, что «в случае завершения переговоров в Москве заключением союза между западными державами и СССР он вынужден будет отказаться от нападения на Польшу. Если же западные державы не подпишут союза с СССР, заявил канцлер, то для разгрома Польши путь будет открыт». (Цит. по: там же). Таким образом, оказавшись фактически один на один с Германией, Советский Союз был вынужден искать оптимальные пути для обеспечения своей безопасности и должен был учитывать опасность возможной войны на два фронта — с Японией и Германией одновременно.
Следует напомнить, что инициатива заключения германо-советского договора исходила от немецкой дипломатии. Не считая пока Германию достаточно подготовленной для нападения на СССР, Гитлер поручил
И. фон Риббентропу обратить внимание на «необходимость инсценировать в германо-русских отношениях новый рапалльский этап» и «проводить с Москвой в течение определённого времени политику равновесия и экономического сотрудничества». 7 апреля 1939 года советник И.Риббентропа — П.Клейст, занимавшийся проблемами Восточной Европы, получил соответствующие указания. (См.: там же. С. 282).
В июле-августе 1939 года немецкая сторона начала активно зондировать почву к подписанию политического договора с Советским Союзом. Исчерпав другие возможности, Гитлер 20 августа 1939 года обратился к И.В.Сталину с ультимативным по тону посланием. В нём говорилось, что в любой день может «разразиться кризис», в который, возможно, окажется вовлечённым Советский Союз, если он не согласится на подписание с Германией Договора о ненападении. Поэтому я ещё раз предлагаю Вам, говорилось в телеграмме, принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее в среду, 23 августа. Имперский министр будет облечён всеми чрезвычайными полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении. (См.: История Второй мировой войны, 1939—1945. В 12 т. / Институт военной истории Министерства обороны СССР и др.; главная редакционная комиссия: А.А.Гречко (председатель) и др. — М.: Военное издательство, 1973—1982. Т. 2: Накануне войны / Г.А.Деборин и др.; редколлегия: Г.А.Деборин (гл. ред.) и др. 1974. С. 282). Было очевидно, что Гитлер торопился. В свою очередь подход Сталина к настоятельным предложениям Гитлера, как отмечал Генри Киссинджер, был весьма сдержанным.
21 августа Лондону было предложено принять 23 августа для переговоров и подписания Пакта о ненападении Геринга, а Москве — Риббентропа. Лондон ответил: «Да». Согласие Сталина на приезд Риббентропа было получено Гитлером в «Бергхофе» вечером 21 августа 1939 года. Гитлер сделал ставку на Москву. (См.: Мельтюхов М.И. Советско-польские войны: Воен.-полит. противостояние, 1918—1939 гг. — М.: Вече, 2001. С. 194; Белов Н. фон. Я был адъютантом Гитлера / Пер. с нем. — Смоленск: Русич, 2003. С. 224).
23 августа в Москву прибыл Риббентроп, и в ходе переговоров со Сталиным и Молотовым в ночь на 24 августа были подписаны советско-германский договор о ненападении и секретный дополнительный протокол, определивший зону ответственности сторон. К сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, Бессарабия и Восточная Польша. (См.: Мельтюхов М.И. Советско-польские войны: Воен.-полит. противостояние, 1918—1939 гг. — М.: Вече, 2001. С. 302, 318). Следует подчеркнуть, что Советский Союз впервые за всю свою историю добился признания своих интересов.
Вместе с тем, необходимо дать ещё несколько пояснений относительно пакта Риббентропа — Молотова. Первое: Советский Союз был последним в числе государств, подписавших аналогичные договоры с нацистской Германией. До 23 августа 1939 года договоры с Германией были подписаны широким кругом государств, о чём Запад предпочитает умалчивать: 1934 год — польско-германский договор о дружбе и ненападении; 1935 год — англо-германский морской договор; 1938 год — Мюнхенский сговор. В марте 1939 года Румыния заключает кабальный договор с Германией и одновременно договор с Германией подписывает Литва (прилагалось соглашение о передаче Германии Мемельской области — земель вокруг современной Клайпеды). В мае Италия заключает договор с Германией («Стальной пакт» с военной конвенцией) и датско-германское соглашение. В июне Эстония и Латвия подписывают договоры с Германией. И только в августе 1939 года договор с Германией заключает СССР.
Как отмечает Киссинджер, Сталин выиграл партию благодаря тому, что сделал окончательный выбор лишь в последнюю секунду. Мерой сталинских достижений следует считать то, что он, пусть даже временно, поменял местами приоритеты Гитлера. (См.: Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. В.В.Львова; послесл. Г.А.Арбатова. — М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», ТОО «ВРС», 1997. С. 299).
Во-вторых, как статьи Договора о ненападении от 23 августа 1939 года (пакта Риббентропа — Молотова), так и дополнительный секретный протокол не противоречили международной практике и ничем не отличались от аналогичных документов того времени. Советский Союз правомерно и законно отстаивал свои государственные и национальные интересы, на что он имел моральное и юридическое право. И последнее, к Договору не прилагалась военная конвенция, обязывающая договаривающиеся стороны вести совместные военные действия. Таким образом, объективные факты подтверждают, что демонизация и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны с опорой на Договор не выдерживают критики и абсурдны по сути.
Договор был не только вынужденной мерой для Советского Союза, но и абсолютно необходимой. Он разрушил большую игру всех центров мировых сил и заложил условия для Победы в 1945 году, помог СССР избежать войны на два фронта: не быть втянутым в войну 1 сентября 1939 года и урегулировать конфликт с Японией у р. Халкин-Гол. А секретный дополнительный протокол, в соответствии со статьей 2, ограничивал германскую экспансию линией северной границы Литвы и рек Нарев, Висла, Сан. (См.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии, 1938—1939 / Пер. с нем; вступ. слово В.М.Фалина; общ. ред. и предисл. Л.А.Безыменского. — М.: Прогресс, 1991. С. 305). Заключение договора позволило СССР вернуть Западную Беларусь и Западную Украину, отторгнутые панской Польшей по Рижскому договору от 18 марта 1921 года. Границы СССР были отодвинуты на несколько сот километров от жизненно важных промышленных и административных районов.
Договор позволил СССР выиграть около двух лет для укрепления обороноспособности и подготовки к неизбежному вооружённому столкновению с Германией. За полтора года на несколько сот километров была увеличена глубина стратегической обороны. Сформирована промышленная база на Востоке (создавались предприятия-дублёры, проводились коммуникации буквально в чистом поле, где впоследствии эвакуированные предприятия из западных регионов в предельно короткий срок смогли начать выпуск военной продукции). Максимально увеличены объёмы промышленного производства: продукции машиностроения, добычи угля, нефти и не только.
Вынужденный характер пакта 1939 года признавал и такой маститый и не склонный к симпатиям по отношению к нашей стране политик, как Черчилль, который отмечал в своих мемуарах: «Если у них политика и была холодной и расчётливой; то она была в тот момент в высокой степени реалистичной... Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет». (Черчилль У. Вторая мировая война [в 3 кн.]: сокращённый перевод с английского / Под редакцией А.С.Орлова. — М.: Воениздат, 1991. Кн. 1. С. 180).
Вместе с тем, необходимо напомнить Западу, особенно официальной Варшаве, что панская Польша первая — подчёркиваем, первая — подписала 26 января 1934 года Договор о дружбе и ненападении сроком на 25 лет с Германией. Польское руководство не только выразило согласие на сотрудничество с нацистской Германией, но и уведомило Гитлера о своих имперских планах воссоздать Великую Польшу — модель «Польша 1772». При этом приоритетным направлением польской экспансии был СССР с акцентом на Украину. Уже в июле 1934 года начальник восточного отдела МИД Польши Т.Шетцель в беседе с болгарским поверенным подчеркнул, что Польша рассчитывает на то, что «если на Дальнем Востоке разразиться война, то Россия будет разбита и тогда Польша включит в свои границы Киев и часть Украины…». (Цит. по: Михутина И.В. Советско-польские отношения 1931—1935 гг. / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. — М.: Наука, 1977. С. 200). Более того, в ходе визита в Берлин 5—6 января 1939 года глава польского МИД Бек, отвечая на вопрос Риббентропа, не отказалось ли Польское правительство от устремлений Пилсудского в отношении Украины, заявил: «…поляки уже были в Киеве», и «эти устремления всё ещё живы и сегодня». (Цит. по: Документы и материалы кануна Второй мировой войны, 1937—1939: Январь-август 1939 г. [Сборник]. В 2-х т.
Т. 2 / М-во иностр. дел. СССР; редкол.: А.П.Бондаренко и др. — М.: Политиздат, 1981. С. 14).
Планы официальной Варшавы не ограничивались интересом только к Украине. В польском Министерстве иностранных дел была подготовлена совершенно секретная записка «Польская политика на Кавказе». В ней обращалось внимание, что «Кавказу, как одной из пограничных территорий России, густонаселённой людьми нерусской национальности, необходимо уделять внимание в общем плане проблемы польско-русских сношений». Касаясь целей и задач польской политики на Кавказе, в записке указывалось, что «Польша заинтересована в отторжении от России» Грузии, Азербайджана и ряда других территорий. Политическая обстановка благоприятна для того, чтобы «начать вести на Кавказе активную польскую политику». Созданные на Кавказе государства в случае войны «могли бы осуществлять превосходную военную диверсию, сдерживая часть русских сил на Северном Кавказе и Кубани». (Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной, 1939—1941 / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. — М.: ТОО «Новина», 1997. С. 37).
Отметим, что разведывательный отдел польского генштаба на протяжении всего межвоенного периода активно разрабатывал агрессивные планы против СССР. В докладе, подготовленном отделом в декабре 1938 года, указывалось, что в основе внешней политики Польши на Востоке лежит «расчленение России». Стоит вопрос о том, «кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться... Главная цель — ослабление, разгром и расчленение России». (См.: История Второй мировой войны, 1939—1945; в 12 т. / Институт военной истории Министерства обороны СССР и др.; главная редакционная комиссия: А.А.Гречко (председатель) и др. — М.: Военное издательство, 1973—1982. Т. 2: Накануне войны / Г.А.Деборин и др.; редколлегия: Г.А.Деборин (гл. ред.) и др. 1974. С. 351).
Но именно Польша оказалась первой жертвой Второй мировой войны в Европе в силу своей непродуманной и недальновидной политики. Гитлер не взял Польшу в союзники. В большой предвоенной политической игре польская верхушка крупно просчиталась. В планах геополитической стратегии германского нацизма Польша являлась лишь разменной картой. Это понимали на Западе, но упорно не хотели признать официальные польские круги. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Следует отметить, что план нападения на Польшу руководством Третьего рейха был подготовлен задолго до подписания германо-советского договора от 23 августа 1939 года. 3 апреля 1939 года Кейтель издал секретную Директиву вооружённым силам на 1939—1940 годы, касающуюся Польши. Она была зашифрована под названием «Белый план». При этом фюрер добавил: «Подготовка должна быть проведена таким образом, чтобы операции могли начаться в любой момент, начиная с 1 сентября 1939 года». (См.: Черчилль У. Вторая мировая война [в 3 кн.]: сокращённый перевод с английского / Под редакцией А.С.Орлова. — М.: Воениздат, 1991. Кн. 1. С. 158). 11 апреля 1939 года «Белый план» был подписан. (См.: Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. — М.: Междунар. отношения, 1997. Т. 3. 1933—1941 годы / А.И.Байдаков, Л.И.Воробьёв, С.М.Голубев и др.; гл. ред. Е.М.Примаков. 1997. С. 290; Документы и материалы кануна Второй мировой войны, 1937—1939, январь-август 1939 г. [Сборник]. В 2-х т. Т. 2 / М-во иностр. дел. СССР; редкол.: А.П.Бондаренко и др. — М.: Политиздат, 1981. С. 66).
Следует подчеркнуть, что уже в первых числах сентября польское руководство начало активно готовиться к эвакуации из Варшавы, эмигрировав в Румынию, предало и свою страну, и свой народ.
В середине сентября 1939 года немецкие войска подошли к территории Западной Белоруссии и Западной Украины, которые оказались перед угрозой нацистской оккупации. В этих условиях Советский Союз правомерно принял решение взять под защиту белорусский и украинский народы.
Советское руководство обоснованно защищало национальные, политические и военно-стратегические интересы, сделало всё, чтобы земли, аннексированные Польшей, были присоединены к СССР, а Западная Белоруссия и Западная Украина воссоединены с БССР и УССР. Соответственно, нет никаких оснований называть Освободительный поход Красной Армии советской захватнической акцией, как и нет никаких правовых норм в обвинении СССР в развязывании Второй мировой войны.
В результате Освободительного похода 17 сентября 1939 года в состав Советского Союза вошли земли Западной Белоруссии и Западной Украины вплоть до Буга в соответствии с «линией Керзона» (в условиях, когда Польши как суверенного государства уже не существовало). Это подтверждает абсурдность мнения о том, что Сталин и Гитлер «поделили Польшу».
28 сентября 1939 года СССР и Германия подписали новый договор «О дружбе и границе». В соответствии с договором граница была проведена по так называемой «линии Керзона».
Считаем необходимым дать несколько пояснений по вопросу «линии Керзона». На Парижской конференции была создана рабочая комиссия по польскому вопросу. При принятии решения комиссия исходила из рекомендации Верховного совета союзных держав от 8 декабря 1918 года — включить в состав Польши только этнические земли без Западной Белоруссии и Западной Украины. Итоговый документ был опубликован в «Декларации Верховного совета союзных и объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши» от 8 декабря 1919 года за подписью председателя Верховного совета Ж.Клемансо. (См.: Мельтюхов М.И. Советско-польские войны: Воен.-полит. противостояние, 1918—1939 гг. — М.: Вече, 2001. С. 28).
Подтверждением законного характера новых границ СССР являются слова, сказанные 1 октября 1940 года У.Черчиллем в палате общин: «Тот факт, что русские армии находятся на „линии Керзона”, вызван необходимостью. Это обеспечит безопасность России перед лицом фашистской угрозы». (Цит. по: Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. — М.: Междунар. отношения, 1997. Т. 3. 1933—1941 годы / А.И.Байдаков, Л.И.Воробьёв, С.М.Голубев и др.; гл. ред. Е.М.Примаков, 1997. С. 291).
Польское правительство 10 июля 1920 года на конференции в Спа (Бельгия) признало своей восточной границей линию, установленную указанной Декларацией. 12 июля 1920 года английский министр иностранных дел лорд Керзон обратился к Советскому правительству с предложением прекратить войну с условием, что граница Польши пройдёт по линии, утверждённой на Парижской конференции.
Необходимо отметить, что «линия Керзона» была подтверждена и закреплена в качестве польско-советской границы на Ялтинской конференции 1945 года.
Воссоединение Западной Белоруссии с БССР и СССР и Западной Украины с УССР и СССР имело поистине непреходящее значение. Напомним, что польский оккупационный режим на территории Западной Беларуси и Западной Украины, продолжающийся с даты подписания Рижского договора 18 марта 1921 года до Освободительного похода
17 сентября 1939 года, представлял собой целенаправленный, осознанный геноцид белорусского и украинского народов. Политическое бесправие, национальное и социальное угнетение, хищническая эксплуатация природных ресурсов, насилие, грабежи — тому подтверждение.
Необходимо отметить, что польское правительство игнорировало положения Версальского трактата (дополнительный протокол к параграфу 93), Рижского мирного договора (статья VII) и польской Конституции 1921 года (статьи 111—116), гарантировавших свободное развитие национальных меньшинств.
Согласно Рижскому договору, Польша обязывалась предоставить белорусам, украинцам, русским и представителям других национальных меньшинств, проживающим на её территории, все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнение религиозных обрядов. Польские власти самым грубым образом нарушали принятые на себя обязательства. 21 августа 1921 года наркомат иностранных дел БССР направил польскому правительству ноту протеста, в которой был сделан акцент на недопустимость нарушения ст. VII п. I Рижского мирного договора, которым белорусскому населению, находящемуся в границах Польской Республики, гарантировалось право свободного развития культуры и языка и обращалось внимание на необходимость создания благоприятных условий для национально-культурного развития белорусов. (См.: НАРБ, ф. 15, оп. 1, д. 3, л. 30—30 об.].
Во всех официальных документах польские оккупационные власти предлагали белорусам указывать не национальность, а вероисповедование. Термин «белорус» в некоторых случаях заменялся понятием «тутейшыя».
Жизнь рабочих и крестьян Западной Белоруссия представляла собой страшную картину нужды и голода. Об этом вынуждены были говорить даже официальные представители власти. Так, в письме полесского воеводы в министерство социального обеспечения в Варшаве отмечалось: «В городах, не имеющих более или менее развитой промышленности, нищета и голод просто невероятны и непрерывно возрастают.., положение безвыходное, нечеловеческое, хуже животного. Нужду в деревне и городе, нужду „хозяйчиков”, не получивших квалификации безработных, питающихся с декабря по конец июля молотой корой и корнями, нужду многосемейных горожан без жилищ и заработков, калек и заслуженных стариков и других невозможно даже сравнить с нуждой и бедностью больших и малых центров государства». (См.: Мельтюхов М.И. Советско-польские войны: Воен.-полит. противостояние, 1918—1939 гг. — М.: Вече, 2001. С. 31; Революционный путь Компартии Западной Белоруссии. — Мн., 1966, С. 2).
На территории Западной Беларуси чудовищное социальное угнетение переплеталось с не менее ужасающим политическим и национальным. Белорусский язык был объявлен вне закона. Белорусы не допускались на государственную службу и не назначались на должности в армии и местном административном аппарате. В почтово-телеграфных ведомствах не принимались письма и телеграммы, написанные на белорусском языке даже латинским шрифтом. В государственных учреждениях (почта, телеграф, железнодорожная инфраструктура) не разрешалось пользоваться белорусским языком. Рабочие и служащие белорусской и еврейской национальностей на железной дороге, в коммунальных предприятиях заменялись поляками. (См.: НАРБ, ф. 242П, оп.1, д. 32а, л. 21).
Оккупационная политика польских властей особенно проявилась в сфере школьного образования. Польское правительство считало существование белорусских учебных заведений несоотвествующим интересам государства. Инспектор Лидского уезда, некий господин Ус, уже в 1921 году заявил учителям, что с будущего года не потерпит белорусских школ. (См.: НАРБ, ф. 15, оп. 1, д. 3, л. 30 об.). Жандармы избивали и арестовывали крестьян за составление петиций об открытии белорусских школ. Так, было, например, в 1921 году в деревне Малая Берестовица Гродненской губернии, где избили половину крестьян, а 16 арестовали. (См.: НАРБ, ф. 15, оп. 1, д. 3, л. 30).
В июне 1924 года депутаты сейма констатировали, что ходатайства об открытии белорусских школ отклоняются, а на родителей, отказывающихся посылать детей в польскую школу, налагаются непосильные для крестьян штрафы.
Вносимые делегатами интерпелляции не действуют. В ноябре того же года вновь рассматривается интерпелляция с жалобой на то, что в целом ряде местностей, населённых белорусами, власти отказывают в открытии белорусских школ, и присылаемые в Белоруссию учителя-поляки так расправляются с учениками, что избитые ими питомцы польской школы по целым неделям отлёживаются после побоев. В Пинском уезде инспектор убеждал белорусов, что они вовсе не белорусы, а полещуки, а поэтому белорусская школа им не нужна и преподавание будет производиться на польском языке; когда же эти доводы не действовали на крестьян, на смену инспектору появлялись полицейские и арестовывали и отправляли целый ряд крестьян в тюрьму. (См.: Западная Белоруссия — колония панской Польши (к процессу над Белорусской Громадой). — М.: Издательство ЦК МОПР, СССР, 1928).
Польская оккупационная власть сознательно препятствовала подготовке белорусской интеллигенции. Учительские семинарии, готовившие белорусских учителей, были закрыты. На многочисленные запросы послов и жалобы белорусского населения о незаконном закрытии белорусских учебных заведений и жестоких расправах с любым проявлением национального самосознания министр просвещения Польши С.Грабский отвечал, что, закрывая белорусские школы и преследуя белорусский язык, польское правительство добивается, «чтобы граница политическая, стала границей этнографической». Схожее мнение высказал с трибуны сейма в 1925 году польский государственный деятель Л.Скульский: «Заверяю вас, что через десять лет в Польше даже со свечой не найдёте ни одного белоруса». [Цит. по: Егоров Г.М. Западная Белоруссия: [очерки]. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1939).
К белорусам в панской Польше относились как «низшей расе». В армии они не имели права занимать командные должности. Белорусский рабочий и крестьянин, мобилизованный в армию, подвергался жесточайшим национальным преследованиям со стороны польских унтер-офицеров и офицеров, переносил все ужасы палочного режима, господствовавшего в польской армии. По ничтожному поводу солдаты-белорусы подвергались наказаниям, арестам, избиениям и т. д. (См.: там же).
Массовый процесс окатоличивания и ассимиляции белорусов был неотъемлемой частью политики полонизации и реализовывался с опорой на репрессивные механизмы. Из 500 существовавших в белорусском крае православных церквей к 1924 году более 300 были преобразованы в католические и униатские храмы. (См.: Новик Е.К. История Беларуси. С древнейших времен до 2008 г. Учеб. пособие / Новик Е.К., Качалов И.Л., Новик Н.Е.; под ред. Новика Е.К. — Минск: Высш. шк., 2010).
Политику полонизации, окатоличивания и ассимиляции польское правительство осуществляло насильственными и изуверскими методами. Территория Западной Беларуси была покрыта густой сетью полицейских участков. Только в трёх воеводствах (Виленском, Новогрудском и Полесском) в 1925 году имелось 432 участка, 43 поветовых комендатур и комиссариатов полиции, в которых насчитывалось более 11 тысяч полицейских. В Организационном отчёте Брестского окружного комитета КПЗБ за январь 1925 года отмечалось: «В округе поднялся сильнейший террор. Везде по гминам полиция. Где было 2—3 полицианта, теперь 10—12. По гминам рассажены шпики. Насажены в сёла под видом кузнецов, столяров, рымаров, сапожников. А то и просто разгуливают по деревням по 2 и по 3 и прислушиваются внимательно к разговорам. Если где-то соберётся кучка крестьян, то их сейчас же разгоняют. Осадники и бывшие охотники-поляки вооружаются револьверами, винтовками и пулемётами. Устраивают собрания под покровительством полиции. Никого из крестьян не допускают. В деревнях начинают наблюдать за приезжающими и проводящими, спрашивают документы и выясняют, куда едешь и зачем. На маленьких станциях насажены шпики, полиция проверяет документы. (См.: НАРБ, ф. 242П, оп. 1, д. 75а, л. 1).
Польскую оккупационную власть в Западной Беларуси охранял административный государственный аппарат, основой которого была полиция, суды, тюрьмы. Элементарные политические свободы были попраны. Малейшее проявление недовольства подавлялось жесточайшим образом. С целью устрашения польские власти проводили на территории Западной Беларуси так называемую «пацификацию», умиротворение крестьянства. Для проведения «пацификации» в деревни посылались польские карательные отряды. Обычно ночью эти отряды окружали деревню, а на улицах выставляли пулемёты. Всех жителей сгоняли на площадь и требовали выдачи «коммунистического агитатора». Если по истечении указанного срока «агитатора» не сдавали, то начиналась дикая расправа. Арестовывали каждого пятого. Поголовно пороли всё население деревни. Избивали прикладами до потери сознания, пороли розгами, кнутами, нагайками, проламывали черепа. После расправы с населением начинался повальный грабёж. Каратели врывались в избы, забирали продовольствие и деньги. Они уничтожали национальные библиотеки, распускали национальные культурно-просветительные организации, сносили с лица земли целые деревни. Польские оккупационные власти пытались нагайкой и прикладом выбить из головы белорусского крестьянина всякую мысль о национальном самосознании, хотели таким путём превратить белорусов в колониальных рабов, потерявших своё национальное лицо, забывших свою культуру и язык. (См.: Егоров Г.М. Западная Белоруссия: [очерки]. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1939).
Расстрелы, пытки, карательные экспедиции стали устоявшейся
нормой. Архивные материалы свидетельствуют о массовых и чудовищных пытках со стороны польских оккупационных властей: 30 сентября 1926 года был арестован Панасеня Кандрат с деревни Савичи Шидловской гмины полиции Слонима. Его обвиняли в принадлежности к коммунистической партии. Он подвергся нечеловеческим пыткам: голого били, таскали по полу, вкладывали между пальцев куски ткани, смоченные в нефти, и поджигали, топтали ногами, привязывали шнурки к половым органам и тащили вверх… (См.: НАРБ, ф. 882, оп. 1, д. 4, л. 4).
16 сентября 1926 года произошли массовые аресты в округе Белостока, Пружан, Бельска и Волковыска. Самому старшему из арестованных было 33 года, а младшей была четырнадцатилетняя девушка. Издевательства переходили границы: вешали на железных палках, которые были протянуты между скованными руками и ногами, били железными палками по пяткам, ломали пальцы, вливали по несколько литров воды в нос и рот, окунали голову на длительное время в ледяную воду. Никакие просьбы ни послов, ни самих арестованных не помогали. Людей
истязали до полусмерти. (См.: НАРБ, ф. 882, оп. 1, д. 4, л. 6).
Освободившийся из тюрьмы Леонтий Добриян в письме на имя посла Петра Метлы сообщал о чудовищных пытках, которые он перенёс в тюремных застенках: «…Арестовали меня 22.1 (1926 г. — Авт.) и отправили нас троих на постаронок в Язерницу, где мы находились три дня. Первый допрос сделан был комендантом Мельником. 24 января приехал к нам руководитель дэфендивы Слонима, который и начал допрашивать меня, принадлежу ли я к коммунистической партии, рисовал ли флаг, вывешивал ли, собирал ли деньги политическим в тюрьму. Когда я дал ответ, что деньги собирал только на белорусские книжки, а об остальном ничего не знаю, то руководитель дэфиндивы схватил меня за волосы и давай бить головой об угол печки, потом заставил меня разуться, связали руки, протянули палку между ног и рук и давай бить палкой по пяткам, потом, нагнувши голову до колен, комендант бил по шее, отчего я недели три не мог повернуть головы, развязавши, заставили бегать по полу. И опять допросы, после некоторых руководитель дэфиндивы схватил за волосы и бил головой об угол сундука, били по лицу кулаками, отчего лицо моё был черно, как только вышедшего из шахты. Отдохнувши немного, они говорили, что это репетиция, после которой будет спектакль, если не признаешься в том, в чём тебя обвиняем… На утро 23.1 руководитель дэфендивы уехал в Слоним, следом и нас отправили на станцию Езерницы скованных. На разъезде Грынки слезли и пятнадцать вёрст шли до Слонима скованные. В Слониме также допросы, потом битьё и говорили признайся, что коммунист, что делал в партии, какую занимал должность. В одну ночь заливали мне воду с уксусом нос. Когда заливали первый и второй раз, то только кровь лилась струёй из носа и рта, а когда заливали третий раз, то я потерял чувства. Через часа два-три я пришёл в чувство весь мокрый и от воды и от собственной крови. Всё это я перенёс, но знаки, которые они мне оставили на ногах, ещё не зажили… при этом как вампиры, выпивали с меня кровь, теперь я стал подобным восковой свечи. Они обходились со мной как с нищим, у которого украли суму, а у меня отняли не суму,
а здоровье…». (НАРБ, ф. 882, оп. 1, д. 60, л. 2—2 об).
В начале 1930-х годов в тюрьмах Польши находилось более 10 тыс. политзаключённых. Отдельную страницу в системе польских тюрем и концлагерей занимал концлагерь для политзаключённых, созданный в 1934 году в Берёзе-Картузской на Полесье (ныне Брестская обл.) в соответствии с реакционным законом «Об изоляции общественно небезопасных элементов». В концлагере содержались русские, белорусы, украинцы, евреи и поляки — противники режима Ю.Пилсудского.
Пилсудский насаждалал режим «моральной санации»: вводилась цензура прессы, президент страны получил право издавать декреты в обход парламента, который полностью зависел от его воли. Начались преследования инакомыслящих, в том числе поляков, которых массово швыряли в казематы Берёзы-Картузской. 17 дней в концлагере пришлось провести даже бывшему соратнику Пилсудского, польскому публицисту С.Мацкевичу — по обвинению «в ослаблении оборонного духа поляков» и «систематической критике правительства искусственно подбираемыми аргументами».
Как описывал Мацкевич содержание заключённых? В концлагере всё нужно было делать бегом, бегать заставляли даже калек с поломанными костями, больных туберкулёзом, артритом, гипертонией. Не разрешалось молиться и носить крестики на шее. За это заключённых тоже избивали. «Всё выглядело, как дантовский ад», — заключает Мацкевич. Эпилепсии, психические припадки, внезапная смерть были ежедневной практикой в Берёзе-Картузской. Из застенков не выпускали даже ослепших узников. Заключённые содержались в нём в нечеловеческих условиях, подвергались чудовищным пыткам и издевательствам.
Документальных свидетельств этому более чем достаточно. Вот что вспоминает В.Ласкович, ветеран Коммунистической партии Западной Белоруссии: «Закрывали рот тряпкой, из бутылки капли керосина лили в нос. Раз, два, три — человек умирал. Страшные мучения. Польские тюрьмы были переполнены. Больше половины заключённых — политические». Пик репрессий пришёлся на 1934—1939 годы.
Таким образом, зверства, чинимые польской оккупационной властью над заключёнными в тюрьмах и в Берёзо-Картузском концлагере, правомерно квалифицировать как преступление против человечности. Геостратегическая цель панской Польши была на поверхности — подавить национальное самосознание белорусского и украинского народов и ментально растворить в польском этносе.
В результате Освободительного похода 17 сентября 1939 года восторжествовала историческая справедливость — белорусский и украинский народы были спасены от геноцида и истребления со стороны панской Польши и сохранены как нации.
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко справедливо отмечал: «Если бы не было 17 сентября 1939 года, не было бы нашей страны. Спасибо Сталину. Ему нужно поставить за это памятник».
То есть необходимо подеркнуть, что пакт Риббентропа — Молотова — Договор от 23 августа 1939 года способствовал в исторической перспективе утверждению суверенных национальных государств — Беларуси, Украины. И не только.
Военно-политическая ситуация в Европе и мире, к сожалению, сохраняет предельно высокий градус напряжённости. Запад под эгидой Вашингтона и агрессивной активности официальной Варшавы продолжает обострять обстановку у наших границ и по всему периметру Союзного государства. Заявления и действия правящих «элит» западно-натовской коалиции перенасыщены абсурдным радикализмом — политический шантаж, провокации, безрассудное санкционное давление. Сознание военно-политического руководства Запада отравлено ненавистью к Союзному государству. НАТО наращивает контингент вооружённых сил и расширяет многофункциональную военно-техническую базу. К тому же, Запад по-прежнему демонстрирует отторжение всех миролюбивых инициатив со стороны лидеров Союзного государства. Республика Беларусь всё так же остаётся в зоне пристального внимания Запада, США и, естественно, Варшавы, а желанный геостратегический проект «Беларусь — Анти-Россия» продолжает занимать фундаментальную нишу в их геополитической повестке дня. Без подчинения и втягивания Республики Беларусь в политическую модель Запада авантюрная западно-натовская геостратегическая цель — создать санитарный кордон вокруг России, остаётся мертворождённой, как и иллюзорные планы военно-политического руководства Польши об имперском величии.
История уже кратно доказала несостоятельность и контрпродуктивность попыток Запада, США и Варшавы навязать нам свой путь развития. Однако западно-натовская коалиция не намерена переосмысливать свою агрессивно-реваншистскую стратегию и не желает учитывать последствия. Более того, западные ястребы не скрывают подготовки сценариев по дестабилизации ситуации в нашей стране с целью демонтировать конституционный строй и включить Республику Беларусь в политическую модель Запада. В связи с этим у нас есть все основания считать объединённый Запад, США и Варшаву экзистенциальной угрозой.
В своём выступлении на VII Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимый уровень военной безопасности в стране обеспечивается готовностью нашей армии к обороне, защите национальных интересов.
Сегодня Запад бросил нам цивилизационный вызов. Мы наследники победителей фашизма в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны не имеем морального права позволить поглотить нас и растворить в западной модели. Нам нужна безоговорочная Победа, и она будет одержана. Вне сомнения — будет возрождено восточнославянское единство, которого так боится Запад, и наш монолит станет маяком новой архитектуры многополярного мироустройства.
Версия для печати