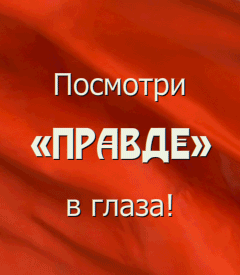П.И.Жилин Из записок партийного работника
Инструктор
В 1948 году я проездом находился в Москве и случайно встретился с одним из своих товарищей — Севастьяновым Александром Ивановичем, который рассказал мне любопытную историю.
В отдалённый от железной дороги район, где он работал секретарём райкома партии, приехал инструктор обкома ВКП(б). О его приезде Севастьянову сообщил начальник станции, и он тут же послал на встречу телегу. Какого же было его удивление, когда возница вернулся один, без инструктора и доложил, что «барышня наотрез отказалась ехать на лошади и идёт пешком».
— Что же, машину потребовала? — спросил я.
— Нет, просто отказалась. Решила за услугами к нам не обращаться. Приехала проверять райком.
«Но причём тут телега, — подумал я про себя. — Ничего не поделаешь, такой, видимо, у инструктора характер». А вслух сказал: «Своеобразный она человек». «И очень», — согласился со мной Александр Иванович.
Об этом разговоре я быстро забыл. Но несколько лет спустя он снова всплыл в моей памяти.
Я возвращался с юга, из командировки. На подъезде к Минеральным Водам ко мне в купе села средних лет женщина, стройная и загорелая. Некоторое время мы ехали молча, присматриваясь друг к другу. Потом она закурила, ловким движением мизинца стряхивая пепел с папиросы. В этом жесте я уловил нечто знакомое и стал внимательно всматриваться в её лицо. Немного надломленные брови, чуть-чуть вздёрнутый нос — всё говорило, что это она.
Я взял газету и, сделав вид, что читаю, тихо проронил: «Рая!».
Женщина вздрогнула и бросила на меня пытливый взгляд. Этого было достаточно. Я положил газету и протянул ей руку: «Здравствуйте, Раиса Михайловна!».
По инерции она пожала мне руку, явно недоумевая, кто я.
— Что-то не признаю Вас. Вот вижу, что знакомый и хорошо знакомый, а не припомню.
— Давно это было. Забыли. Хотя друзей не полагается забывать.
И я напомнил ей завод.
— Дальше не говори. Вспомнила всё, всё.
Она обеими руками схватила мою руку и с жаром затрясла её.
— Ну говори, говори мне, где ты обитаешь, что делаешь, откуда и куда несёт тебя?
С мельчайшими подробностями я рассказал о себе и потребовал того же от неё.
Оказалось, что Раиса Михайловна работает инструктором в одном из республиканских Центральных Комитетов партии. А до этого она три года была инструктором райкома и шесть лет инструктором обкома ВКП(б).
— Ну и как, не трудно? — спросил я, когда она закончила свой рассказ.
— А чего тут такого, трудного?
— Как же, работа-то разъездная. Вся жизнь на колесах. Да и пешком, поди, частенько приходится. Не женское это дело.
— Ничего, привыкла. Временами по десять, а то и по пятнадцать километров зараз отмахаешь. Придёшь, а ноги так и ноют. Посидишь часик-другой, и всё отойдёт.
— Ну а работа-то инструктора тебе по душе, нравится?
Я назвал её на «ты», как старую знакомую, и она этому очень обрадовалась.
— Ещё бы. А иначе я бы на неё не пошла. Не могу себя представить на другой работе. Привыкла, а привычка — огромная сила.
— Знаю, знаю, — согласился я.
— Вот временами приедешь в район, продрогнешь, устанешь. Кажется, настроения никакого нет, хоть обратно уезжай. А потом, как войдёшь в курс дела, засядешь за работу — и всю усталость как рукой снимет.
— Интересно, что же ты делаешь в районах, — полюбопытствовал я.
— Теперь в областях, — поправила она меня. — Проверяю и помогаю.
Раиса Михайловна испытующе посмотрела на меня и, убедившись, что я не шучу, а разговариваю вполне серьёзно, продолжила.
— Работа инструктора многогранная и сложная. Это дело не каждому можно доверить. Тут должен находиться человек всесторонне подготовленный.
— Как и во всяком деле, — добавил я.
— А здесь особенно, — с некоторой обидой в голосе проговорила она. Инструктор, по характеру своей работы, сталкивается с различными людьми. Когда он приезжает в район или область, там не спрашивают, какую специальность он знает хорошо. К нему обращаются все и по любому вопросу. Он обязан каждому ответить и ответить толково, убедительно. А для этого он должен в существе дела разбираться. Неслучайно инструктора называют центральной фигурой партийного аппарата.
— Но перед выездом тебя, по-видимому, инструктируют?
— Не всегда. Чаще вручают командировку и подают руку с коротким напутственным словом.
— Как же в таких случаях быть?
— Самому надо готовиться к выезду. Приходится много читать литературу. И в ленинские труды заглянешь, и над изучением трудов Сталина посидишь, да и периодической литературой поинтересуешься. Только после этого станет ясной цель поездки, а работа на месте будет эффективной.
— Ну а дальше, дальше, как идёт подготовка?
— Если я еду в область, в которой ещё не была и как следует её не знаю, я предварительно обойду инструкторов всех отделов, прикреплённых к этой области, и переговорю с каждым. Достану решения, справки, прочту местные газеты. Потом уже составляю план своего выезда. Это помогает мне в работе.
— Не знал, что такая большая предварительная работа проводится.
— Очень и даже очень.
Она встала и подошла к окну.
Монотонно постукивая колесами, поезд шёл под уклон. До горизонта чернели безбрежные поля. Весенний сев был в самом разгаре. Всюду по полям бороздили гусеничные тракторы. Мы несколько минут молчали. Потом я оторвал взгляд от окна и посмотрел на Раису Михайловну, погружённую в какие-то размышления.
— Ну а как муж-то твой, Николай, поживает? Что же ты ни слова не сказала мне о нём?
Она потупила взгляд и не сразу мне ответила. Мысленно я стал ругать себя за такой, по-видимому, неуместный вопрос. Раиса Михайловна заметила моё смущение и тихо проговорила:
— Убили его, под Берлином.
И на её светло-серых глазах выступили слезы.
— Это так, сейчас пройдёт, — как бы извиняясь, проговорила она.
Я не знал, как утешить её в эту тяжелую минуту, и решил вновь вернуться к довоенным воспоминаниям.
— А курить-то не бросила. Помнишь, как в 1933 году обещала и не просто, а торжественно, в присутствии членов бюро. Значит, проиграла пари!
— Ты даже и это помнишь! — она улыбнулась. — А знаешь, после пари я долго не курила. Даже в тяжёлые фронтовые дни у меня не было во рту папироски. А вот когда получила извещение о гибели мужа, не выдержала и закурила. Но я брошу, обязательно брошу.
— Значит, ты была на фронте?
— Четыре года и всё время на передовой, да ещё в стрелковом полку.
Раиса Михайловна открыла чемодан и показала шерстяную гимнастерку со знаками различия капитана, на которой были прикреплены пять орденов, четыре медали и ленточка за тяжёлое ранение.
— На курорте её не одевала. Вожу как дорогую память.
— Что, осколком снаряда ранило?
— Нет, контужена. С повреждением руки и демобилизацией из армии. Да и с ногой не всё было в порядке. Первые два года хромала. А теперь, кажется, вылечила. Два месяца на грязях была.
Поезд подходил к станции. Я взял чайник и выбежал за кипятком. За чаем мы перебрали всех наших знакомых и друзей, а потом она снова с упоением заговорила о работе.
— Поди, Михайловна, не один десяток секретарей райкомов пострадал от тебя?
Я ждал, что она начнёт хвалиться, перечисляя одну за другой фамилии секретарей, снятых с постов по её материалам. Но я ошибся в своих предположениях. Она как-то лукаво посмотрела на меня и отрицательно покачала головой.
— Человек я совсем мирный. Больше действовала внушениями. Как говорится, учила людей уму-разуму.
— И получалось?
—Да ещё как! Вот перед отпуском проверяла один из райкомов. Долго копалась в делах и протоколах, много беседовала с людьми и пришла к выводу, что райком и его секретарь стоят на неправильных позициях. Их засосала хозяйственная текучка, и они отгородились от партийно-политической работы. Об этом я и доложила секретарю.
— Разве такая элементарная истина до твоего приезда была ему не известна?
— О ней он хорошо знал и без меня. Но беда в том, что, зная её, он продолжал делать всё по-старому. И когда я указала ему на этот осуждённый партией метод руководства, он усмехнулся и ответил: «Обком толкает нас, секретарей, на это. Если у меня в районе развалится политшкола или сорвётся партийное собрание, то самое большое заработаю „на вид”. А вот если я, к примеру, завалю сев или уборку, то вряд ли удержусь в партии». Я посмотрела на него и говорю: «Не в этом, товарищ секретарь, дело. Вы набили себе руку на административных распоряжениях. С вашим кругозором и познаниями гораздо легче иметь дело с навозом, гвоздями, лошадьми и плугами. Вещи и животные, что им ни скажешь, всё за чистую монету примут. Иное дело работать с людьми. Тут, брат, голову надо иметь».
—Ну и как он отреагировал?
— Вначале обиделся. Покраснел. А потом согласился. Ничего не поделаешь, правда была сказана и сказана в глаза.
— И часто тебе, Рая, приходится выезжать?
— Две трети времени провожу в командировках.
— С бригадой?
— Нет, чаще всего одна.
— Как же успеваешь всё сделать, охватить такой большой круг вопросов?
— Сразу видно, что не знаком с нашей инструкторской работой. В каждой области у меня имеется внештатный актив, и к проверке я привлекаю его. А одной разве можно справиться.
И она продолжила рассказывать мне о выездной работе инструктора. Приезжая в район, он всесторонне и глубоко обследует организацию, изучает ход её развития, обобщает опыт, вскрывает ошибки и делает выводы. Он постоянно работает с людьми, с кадрами. Сам учится у них и учит их. «Да, — подумал я.— На такой работе действительно должен находиться человек всесторонне образованный, культурный, кристально честный и нетерпимый к всякого рода антигосударственным явлениям».
Как бы угадав мои мысли, она заключила:
— Но не всегда и не у всех инструкторов получается гладко. У нас есть ещё такие, которые приедут, наберут «жареных» фактов и марш обратно. От таких щелкопёров пользы мало. Они только нервируют людей на местах, а помощи им никакой не оказывают. Да и анализа полного, глубокого не сделают. На местах над ними просто смеются. Они не пользуются там авторитетом.
— Как я понял, Рая, вся твоя кипучая деятельность протекает в районах и областях?
— Не всегда. Приходится много работать и в аппарате. Вот только нынешней зимой я подготовила два решения. Без единого замечания прошли. А у нас на бюро такое бывает очень редко. Секретари даже к мелочам придираются. Даже заведующий отделом похвалил.
— Проекты решений трудно готовить. Сам над ними не раз сидел и знаю, чего они стоят, — вставил я.
— Но не только проекты. Много времени занимают телефонные звонки. За мной закреплена южная группа областей. Я их держу в курсе дел и требую от них работы. По моей группе в любой день и по любой области материал можно взять, даже когда меня нет. Завела папки и всё собираю в них, начиная от кадров и идеологической работы и заканчивая хозяйственными делами и цифрами о выполнении планов.
Так, в разговорах, мы провели с ней всю дорогу. Уже подъезжая к Ростову, узнал, что Раиса Михайловна работала инструктором обкома партии, где длительное время был первым секретарем одного из райкомов Александр Иванович Севастьянов.
— А ты, Рая, случайно не знаешь Севастьянова, Александра Ивановича?
— Как же, знаю. Работали в одной области, и несколько раз была в его районе.
— Это — мой товарищ, — пояснил я.
И со всеми подробностями рассказал ей о случае, описанном мне Севастьяновым. Она с большим вниманием выслушала и проговорила:
— Всё точно он тебе передал. Ничего от себя не прибавил.
— А откуда ты знаешь, что всё именно так обстояло?
— А как же, в район-то приезжала я.
— После такой тяжёлой контузии пять километров пешком. Разве так можно!
Она громко рассмеялась и как бы в шутку ответила:
— Иначе не могу. Боюсь, испортят меня: лошадку к станции подадут, в столовой особые условия создадут, спецномер в гостинице закажут. И я, чего доброго, размякну. Сам знаешь, душа-то у меня женская. Да и на деле всё это может отразиться. А тут, после «мытарств», злее становишься, да и глаз лучше ко всему приглядывается. Давно уже приучила себя к такому порядку и отвыкнуть не могу.
В Ростове Раиса Михайловна сошла с поезда. Здесь ей надо было делать пересадку.
— А я, Рая, тебя своеобразным человеком назвал, когда мне о твоём приезде рассказал Севастьянов.
— И не ты один. От многих это слышала. И не обижаюсь. Сама чувствую: какая-то доля правды тут есть.
Когда поезд тронулся и, набирая скорость, стал удаляться, она громко крикнула мне:
— Не забывай, пиши. Буду ждать. У вас там, в центре России, новостей-то гораздо больше, чем у нас, на юге.
— Обязательно напишу, Рая, жди.
И я на прощание помахал ей рукой.
Неожиданная встреча
В первой половине мая, когда установились ясные и тёплые дни, до Малиновского райкома партии дошёл слух, что в район приезжает секретарь обкома ВКП(б). Весть об этом быстро разнеслась по всем отделам райкома. Инструкторы и заведующие отделами передавали друг другу эту новость.
— Он всё раскопает. Он покажет, как надо работать, говорили инструкторы орготдела.
— Только нам не надо молчать. Давайте расскажем всё, как есть, — вторил им заведующий военным отделом.
Малиновский район согласно сводке, опубликованной в областной газете, шёл в первом десятке по показателям весеннего сева. Закончив сев ранних зерновых, передовые колхозы приступили к посадке картофеля.
Тем не менее, секретарь райкома и председатель исполкома чувствовали тревогу. Они сидели в райкоме и перебирали всё, что могло их подвести. Никто не ожидал, что недавно приступивший к работе секретарь обкома может так быстро их навестить. Он ехал в район поездом. К железнодорожной станции, расположенной в двадцати километрах от райцентра, была послана райкомовская машина.
Секретарь обкома Паршин был в области человеком новым. После учёбы он работал в Сибири секретарем небольшого сельского райкома. Там и показал себя как знающий дело и принципиальный партиец. Его избрали секретарём крупного горкома, а через год командировали сюда. На пленуме он был избран секретарём обкома ВКП(б).
Быстро выдвинувшийся по работе Паршин, по слухам, отличался хладнокровием и сдержанностью. Говорили также, что секретарь обкома лично сам копается в делах проверяемых организаций и строго наказывает виновных. Недавно от Паршина основательно досталось руководителям областного Управления сельского хозяйства. По настоянию секретаря обкома был снят с должности начальник Управления.
В райкоме партии Паршина хорошо знал только первый секретарь, Николай Александрович Лаврушин. Они были товарищами детства, родились и выросли в одной из подмосковных деревень. Да и студенческая жизнь их прошла вместе. Но восемь лет назад Паршина командировали в Сибирь, и с тех пор они не виделись.
Николай Александрович был несколько обеспокоен приездом товарища, секретаря обкома. Он чувствовал, что за два года секретарствования в Малиново нажил себе немало врагов. Лаврушин не любил тех, кто его критиковал и освобождал их от работы. Не всё в порядке было и с севом. Вчера они дали сводку, что сев ранних зерновых закончен, а фактически план был выполнен на восемьдесят процентов. Правда, телеграмму подписал Макаров, председатель исполкома райсовета, но и он об этом знал. Николай Александрович думал, что вряд ли ему удастся избежать неприятного разговора с секретарём обкома.
— Многовато всё же мы завысили цифры, — обращаясь к Макарову, проговорил он.
— Может быть, — ответил председатель. — Но Паршину трудно в них разобраться. Всё сделано по форме…
— Но, ведь, на одну пятую увеличили, — постукивая пальцами по столу, заметил Лаврушин.
— Об этом, Николай Александрович, не беспокойтесь. Я просмотрел все рапортички из колхозов и исправил их. Так что цифры сходятся.
— Ну смотри, смотри.
Лаврушин вновь вспомнил, что Паршин — его товарищ и земляк. «Может, действительно копаться не будет», — мелькнуло у него в голове.
Волновала Николая Александровича не только сводка по весеннему севу. Тревожился он и за свою замкнутость и оторванность от аппарата и актива. Лаврушин общался с ними только через бумажки. Справки писали ему по каждому пустяку. Он, как правило, их даже не читал, но обязывал писать. И ему писали.
Особенно беспокоило Лаврушина неправомерное освобождение от работы штатного пропагандиста РК ВКП(б) Корнеева, выступившего на партийном собрании с резкой критикой в адрес первого секретаря. Правда, Лаврушин умело подстраховался. Он договорился со вторым секретарем Прохоровым, и тот, когда Лаврушин выехал в колхозы, собрал бюро райкома и снял Корнеева с должности.
Этот, совсем недавний случай с пропагандистом не выходил из головы Николая Александровича. Он знал, что этим фактом недоволен весь коллектив райкома. Да и сам Корнеев мог за себя постоять особенно теперь, когда в район приехал секретарь обкома.
Николай Александрович нажал кнопку и вызвал секретаршу:
— Пусть Пётр Петрович зайдёт ко мне.
Второй секретарь вошёл в кабинет. По его лицу было заметно, что и он переживает не меньше, чем Лаврушин.
— Ну, что? — показывая вниз, где находились основные отделы райкома, спросил Лаврушин.
— Плохо,— полушепотом ответил Прохоров. — Договорились вопрос поставить на обсуждение партсобрания и пригласить секретаря обкома.
— Поди, всё Корнеев?
— Да, он.
Может быть, вы, Пётр Петрович, скажете ему, что мы восстановим его на работе, если он пообещает…
— Что вы, Николай Александрович. Разве так можно!
— Ну-ну, смотрите. Я хотел как лучше для вас. Не похвалят, если всё это дойдёт до секретаря обкома.
— Но тут есть и ваша вина. Я только выполнял ваши указания.
— А я, кажется, не присутствовал на этом заседании бюро. Освобождение Корнеева от работы проводили без меня.
Когда второй секретарь вышел из кабинета, Лаврушин посмотрел на председателя, покачал головой и, как бы сожалея, проговорил:
— Хороший работник Пётр Петрович. Жалко мне с ним расставаться, а придётся. Не будешь же защищать человека, который зажимает критику. Да и Паршину это может не понравиться, а мы с ним товарищи.
Макаров сидел молча. Проработав четыре года с Лаврушиным, он ещё никогда не видел его таким жалким. «Как можно ошибиться в человеке!» — подумал он. Лаврушин вдруг сразу сделался ему противным.
В нём он увидел не только плохого секретаря райкома, но и ничтожную личность, которая не побрезгует ничем, чтобы, спасая себя, свалить всю ответственность на подчинённого. Макаров сдержанно попрощался и ушёл расстроенный и злой.
К вечеру в Малиново приехал секретарь обкома. Встретил его Лаврушин:
— Ну вот, наконец-то, приехали. Какая неожиданная встреча!
Паршин не смог сразу определить, как отнесся к его приезду Лаврушин: радуется или недоволен.
— Здравствуйте, Николай Александрович, — пожимая руку Лаврушину, проговорил секретарь обкома. — Кажется, восемь лет прошло, как мы с вами расстались?
— Да, давно не виделись. Но вы почти совсем не изменились. Такой же молодой, солидный.
С этими словами Лаврушин взял Паршина под руку и повёл в свой кабинет:
— Может, с дороги чайку прикажете?
Секретарь обкома, повинуясь воле товарища, шёл рядом с ним. Высокий, широкоплечий и полный, он вёл себя как-то просто, без излишней начальственной серьёзности.
Лаврушин почувствовал, что у него отлегло на сердце: «Нет, Паршин совсем не такой, как о нём говорят». Секретарь райкома увидел при встрече не строгого начальника, а товарища. Ему захотелось поговорить по душам, вспомнить детство, учебу… Николай Александрович был убеждён, что воспоминаниями он размягчит доброе сердце товарища и поговорит с ним о «деле». Он стал настойчиво приглашать его к себе на квартиру:
— Ну пошли, пошли, и жена хочет встретиться, да и я рад, что в лице высокого начальника вижу своего товарища, друга.
Паршин колебался, как ему поступить: он не любил пить чай у людей, которых он проверял. Но в Малиново он приехал не только потому, что имел жалобы на руководителей района, а чтобы повидаться с Лаврушиным. Нарушая установившуюся традицию, он согласился. Этого и добивался Николай Александрович. Он шёл с секретарем обкома под ручку, нарочито медленно и важно, демонстрируя всем свои приятельские отношения с начальником.
Весь вечер они просидели вдвоём, перебирая старых друзей и знакомых. Лаврушин давно собирался поговорить о работе, но не находил подходящего момента. Поэтому даже обрадовался, когда Паршин сам перешёл к этой теме.
— Надолго предполагаете задержаться у нас?
— Как того потребуют дела. Думаю, что дня три-четыре пробуду.
Ещё никто из секретарей обкома партии не приезжал в Малиново на такой длительный срок. Обычно они задерживались здесь лишь на несколько часов, проездом из соседних районов, а проверкой занимались инструкторы. Теперь Лаврушин понял, что ему придётся держать ответ перед самим секретарём обкома. И он решил поговорить о Прохорове, заранее застраховав себя от возможных неприятностей. Лаврушин начал подробно рассказывать о втором секретаре, о том, как он зажимает критику, снимает людей с работы и третирует аппарат райкома.
— Я бы просил вас, Федор Николаевич, — заключил он, — освободить от работы Прохорова. Весь аппарат им не доволен. Жалуются.
Лаврушин незаметно бросил взгляд на Паршина и осёкся. Досада и разочарование мелькнули на лице секретаря обкома.
— Мне пора, — подавая руку, сказал Паршин.
— Как же, — упрашивал Лаврушин, — может, ещё часик посидите. Да и заночуете у нас. Вон и постель приготовили.
— Нет, не могу…Сами понимаете, Николай Александрович, служба.
Секретарь обкома вышел на улицу и облегчённо вздохнул. Он надеялся, что встретит в Малиново друга и поговорит с ним по душам. Тем более что у Паршина знакомых в этой области не было. Но ошибся в своих ожиданиях. Лаврушин за прошедшие восемь лет сильно изменился.
Пять дней Паршин проверял дела Малиновского райкома партии. Он не собирал сплетен и дрязг. Секретарь обкома к каждому факту подходил осторожно, всесторонне изучая его. И чем больше он это делал, тем непригляднее выглядел его товарищ. Лаврушин окружил себя подхалимами. Угодничество и лесть вытравили из работы райкома всё здоровое, живое и дельное.
Паршин узнал и об очковтирательстве с севом, и о неправомерном освобождении от работы Корнеева. Лаврушин особенно встревожился, когда до него дошли слухи, что Паршин заинтересовался строительством дачи директору механического завода, на которое было уже затрачено много государственных средств. Правда, об участии Лаврушина в строительстве Паршин ещё не узнал. Но беседа с директором, запланированная на вечер, могла вскрыть и этот факт. Поэтому Николай Александрович заторопился на завод.
— Вас, Илья Николаевич, кажется, вызывает Паршин? — спросил Лаврушин, поздоровавшись с директором. — Наверное, догадываетесь, зачем приглашают?
— Как же, земля слухами полнится.
— Да, не повезло нам, — Голос Лаврушина дрогнул, а на лице появилась жалкая улыбка.
— Я просил бы вас, — полушепотом добавил он, — взять строительство дачи на себя…
— Что же вы думаете обо мне? — с какой-то злобной усмешкой ответил директор. — Неужели вы думаете, что я способен и на это!
Перед отъездом из района секретарь обкома пригласил Лаврушина на беседу.
—Жаль мне вас, Николай Александрович, но придётся принимать меры.
— Что же вы предполагаете делать?
— Поставить вопрос на обсуждение бюро обкома. А там, надеюсь, разберутся.
— Но ваша-то, ваша-то какая позиция по этому вопросу будет? — Николай Александрович, тяжело вздохнув, вытер платком пот с лица. — Ведь мы с вами товарищи… земляки. Я знаю, что вся власть в ваших руках. Скажите одно слово, и никакое бюро разбирать не будет.
— Дружба-дружбой, а работа-работой, — проговорил в ответ секретарь обкома. — Да и взгляды у нас с вами, Николай Александрович, стали разными.
— Значит, будете докладывать?
— Да. Доложу всё, как есть, и потребую строгого наказания.
И Паршин распрощался с Лаврушиным.
Секретарь райкома не думал, что встреча с другом детства закончится столь плачевно. Не такой встречи с товарищем ожидал и Паршин.
Случай с директором
Кузьма Никонович Тарасов вот уже более десяти лет работает директором фабрики «Маяк». Человек он скромный и обходительный. Себя называет не директором, а заведующим, а фабрику — мастерской.
— Какая там фабрика, — говорил он, — это просто мастерская.
Пожалуй, такое определение недалеко от истины: «Маяк» входит в систему райпромкомбината и выпускает бельевые пуговицы. Из двухсот рабочих многие являются надомниками.
Но фабрика работала и работает, как государственное предприятие: ей даётся определённый план, отпускается необходимое сырьё, от неё требуют продукцию высокого качества. Кузьма Никонович делает всё, чтобы не посрамить свою фабричную марку.
В годы Великой Отечественной войны фабрика увеличила выпуск продукции, завоевала в социалистическом соревновании знамя облисполкома и держала его до конца войны. «Маяк» работал на армию и вносил лепту в общее дело борьбы с врагом.
В те годы Кузьма Никонович никаких партийных поручений не имел. Тогда с него требовали одно — выполнение плана. Он дни и ночи проводил на производстве, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем.
Не привлекали к партийной работе Тарасова и сразу после войны. Даже в период избирательных кампаний по выборам в Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных республик обошлись без него. Хотя тогда более четырёх пятых коммунистов парторганизации фабрики были агитаторами на избирательных участках.
Но в ноябре 1947 года Кузьму Никоновича вызвали в райком партии.
— Скоро, как вы знаете, выборы, — сказал ему секретарь райкома. — Выборы в местные Советы — это массовая политическая кампания. На каждые восемь-десять избирателей нужен один агитатор. Решили и вас привлечь. Человек вы грамотный, опытный, да и коммунист с большим стажем. Кому же, как не вам, поручить такое важное и почётное дело?
Секретарь подумал и добавил:
— По правде говоря, нехорошо вам как руководителю стоять в стороне от этой всенародной кампании. Чего доброго, отстранитесь от партийных поручений, замкнётесь в круг своих пуговичных проблем и испортитесь. Да-да, самым настоящим образом испортитесь. Мне уже не раз приходилось сталкиваться с подобными случаями.
— Да я не против, — ответил Кузьма Никонович. — Напротив, очень рад.
Тарасова закрепили за домом, где проживали рабочие райжилотдела.
— Там двадцать семейств, — пояснил ему заведующий отделом пропаганды. — Но пусть это вас не пугает. У них в доме — красный уголок, свой актив. Так что работать будет легко.
На другой день вечером Кузьма Никонович отправился к избирателям. Дом находился рядом с фабрикой. Зайдя сначала к управдому, Тарасов получил список жильцов и кратко ознакомился с людьми, среди которых придётся вести агитационную работу.
— Ну что же, можно звать людей на беседу? — спросил управдом.
— Пожалуйста, приглашайте, — ответил Тарасов.
Сразу вслед за тем он спохватился: о чём же он будет беседовать, ведь у него нет ни одной подготовленной темы. Он уже собирался отказаться, но поздно.
Красный уголок быстро заполнился людьми. Тут были рабочие, старушки-домохозяйки, школьники. Два подростка, устроившись в первом ряду, о чём-то негромко спорили. Кузьма Никонович не успел уловить, о чём они спорят, как ему предоставили слово и он начал рассказывать о выборах в местные Советы.
Речь у Тарасова получилась робкой и не очень внятной. Он чувствовал, что на лице выступил пот и ноги дрожали. Ещё никогда он так не волновался, хотя ему не один раз приходилось выступать с докладами перед рабочими фабрики о выполнении плана и очередных задачах. А сейчас, как назло, он или слов подходящих не мог найти, или говорил то, в чём сам как следует не разбирался.
Окончив, наконец, выступление, Кузьма Никонович вздохнул с облегчением и сел за стол.
— А вопрос можно? — раздался звонкий мальчишеский голос. Это спрашивал один из подростков из первого ряда. В его высоко поднятой руке и в уверенном голосе директор уловил что-то недоброе. Он собирался было сказать: «Какие тут могут быть вопросы», — но не успел. Председательствующий снисходительно улыбнулся и проговорил: «Если у вас есть вопрос — задавайте».
— Товарищ агитатор, вот вы говорили тут о демократии, а что это за слово, откуда оно берёт своё начало и что означает?
Задав вопрос, школьник обернулся и подмигнул смотревшим на него взрослым. Сам вопрос и это плутоватое подмигивание совершенно обескуражили Кузьму Никоновича. Он снял очки, сам не зная зачем, протёр и без того чистые стекла и нетвёрдым от волнения голосом проговорил:
— Вам трудно будет понять смысл этого слова.
Потом, обращаясь к собравшимся, поспешно добавил:
— Следующая наша беседа состоится в среду.
Всю неделю Тарасов усиленно готовился к предстоящей встрече. Чем усерднее он читал политлитературу, тем больше обнаруживал, что ему самому надо разобраться во многих вопросах. Он ругал себя, что поторопился назначить беседу на среду: «Надо было, минимум, через декаду. А теперь вот сиди, занимайся». И Кузьма Никонович действительно занимался и рано утром, и поздно ночью. Так много книг он ещё никогда не читал. И всё же он чувствовал, что к беседе он вновь по-настоящему не готов.
В среду агитатор Тарасов, придя на встречу с избирателями, разложил на столе свои записи и повесил на стене географическую карту. В комнате раздался одобрительный гул.
Своё выступление Тарасов посвятил Конституции. Начал он так:
— Тут мне на прошлой беседе задавали вопрос: «Что такое демократия? Отвечаю».
Тарасов говорил просто и убедительно. Он часто поглядывал на сидевших в зале подростков: довольны ли они его объяснениями. Школьники слушали его с интересом. Но как только директор перешёл к основной теме, он снова начал временами сбиваться, допускать оговорки и неточности.
Едва агитатор закончил речь, как тот же самый курносый школьник поднял руку и затряс ею в воздухе.
— Ну, что там у вас? — спросил управдом. — Может, не стоит сегодня задавать вопросы?
— Нет, пусть докладчик расскажет нам, что составляет экономическую основу нашего государства!
И во второй раз Кузьма Никонович оказался не на высоте. У него всё как-то спуталось и смешалось. Он долго стоял молча, опустив голову, и даже не заметил, как подростки, а за ними и взрослые потянулись к выходу. Пришёл он в себя, когда красный уголок уже опустел.
— Извините, товарищ агитатор, — сказал ему управдом. — Детишки, сами понимаете. Ничего не поделаешь.
Ушёл директор с беседы расстроенным. Сегодня он особенно ясно понял, что во всём был виноват сам. Свыше шести лет не садился за чтение политической книги. Вот и отстал так, что оказался человеком теоретически неподготовленным. Боялся Кузьма Никонович, что об этой непривлекательной «истории» узнают в райкоме партии. «Срам-то, срам-то какой!» — подумал он.
На другой день, собрав свои записи, Тарасов отправился в партийный кабинет райкома на консультацию. Он понял, что иначе нельзя, если он не хочет ещё раз попасть в столь неприятную ситуацию.
Человек с характером
На днях я получил письмо от одной своей знакомой — Александры Ивановны Конышевой. Она более четырёх лет была секретарем партбюро на небольшом подмосковном заводе. Впервые я встретился с ней в трудные дни 1941 года. Тогда Александра Ивановна работала шлифовальщицей.
Тревожной осенней ночью из главка пришёл приказ: завод не эвакуируется, остаётся на месте и будет производить автоматы для армии. Получив приказ, рабочие стали молча собираться на митинг. Кое-кто был растерян. Нашлись и трусы и паникёры, предлагавшие бросить завод и бежать.
Саша, как многие звали её тогда, поднялась на токарный станок и взволнованным голосом произнесла замечательную речь:
— Все, кому дорога Родина, кто ненавидит фашистов и хочет жить во имя нашей победы, идите к станкам и работайте! Армия ждёт от нас автоматы!
И Саша первой направилась к своему рабочему месту. Она шла решительной походкой, и люди уступали ей дорогу.
— Семен Захарович! — обратилась она к пожилому рабочему. — Пойдёмте, ведь каждая минута — это один автомат для армии.
— Пошли, Саша, — поддержал её рабочий.
Вслед за ними потянулись и другие. Только небольшая группа продолжала стоять в раздумье.
На другой день, в полдень, под прикрытием истребителей завод атаковала пятёрка вражеских самолётов и стала сбрасывать фугаски.
Александра Ивановна, стоя в токарном цехе рядом с бомбоубежищем, твёрдым голосом предостерегала: «Товарищи, не создавайте давки, спускайтесь спокойнее!».
Было как-то неудобно бежать в бомбоубежище, особенно мужчинам, когда женщина оставалась наверху и наводила порядок.
— Саша, скажи, не боязно тебе, когда при налётах остаёшься в цехе? — спросила её подруга.
— Конечно, боязно.
— Почему же ты не идёшь в убежище, а продолжаешь работать?
— Не могу… Я, ведь, коммунистка.
Конышева всегда была на самых трудных и опасных участках.
В декабре 1941 года общее партийное собрание избрало Конышеву секретарём партбюро. И с тех пор она руководила заводской парторганизацией.
Последний раз я виделся с Александрой Ивановной в январе 1945 года. Встретились мы с ней в токарном цехе. Она была весела и радостна.
— Ну, как дела, Александра Ивановна?
— Хорошо, очень хорошо. Только вот работы уйма.
И это была сущая правда. Конышева дни и ночи проводила на заводе, в цехах, в бригадах. Она вникала в детали многогранной жизни коллектива и никому не давала поблажки. Её выступления на партсобраниях были острыми и правдивыми. Она, как говорили коммунисты, критиковала, не взирая на лица, и её слушались и даже побаивались.
И вот я получил от Александры Ивановны небольшое письмо, написанное неровным почерком. Внимательно вчитываясь в строки письма и зная характер Конышевой, я понял, что у неё случилось что-то неприятное. На бумаге виднелись расплывчатые следы слёз. Конышева писала и плакала. Это сильно обеспокоил меня. Ведь, вызвать слезы у Александры Ивановны было нелёгкой задачей.
Я помню, в феврале 1943 года она получила с фронта письмо. Мы стояли рядом с контрольным мастером, рассматривая автомат новой модели. Конышева распечатала конверт, прочитала текст и, закусив нижнюю губу, передала мне:
— Прочтите!
Я быстро пробежал письмо, и руки у меня опустилсь.
— Саша, что же это такое? Неужели убили?
— Да, убили.
Я бросил взгляд на Александру Ивановну и ни одной слезинки не увидел в её глазах. Только как-то ярче засеребрилась прядь седых волос, впервые появившаяся у Конышевой, когда она под разрывами бомб заканчивала срочную работу, а потом тушила пожар и оказывала помощь раненым.
— Ты бы поплакала, Саша. Может, легче будет на душе, — сказал я.
— Не могу, — сдержанно ответила она. — Понимаете, такой уж у меня характер.
И теперь, читая её письмо, я решил немедленно увидеться и поговорить с Александрой Ивановной.
Стоял пасмурный, сырой апрель 1946 года. С утренним поездом я выехал на завод. Через три часа мы с ней встретились. Может быть, потому что я давно не видел её, или на Александру Ивановну так подействовали последние события, но она была совершенно неузнаваема: осунулась, стала разговаривать раздражительно.
— Что с вами? — с беспокойством спросил я.
— Не зная, но чувствую себя плохо. Просто места себе не нахожу. Возможно, я и не права, но об этом, ведь, мне никто не говорит. Да и поделиться не с кем.
Она, нервничая, начала рассказывать о случившемся. Говорила быстро, постоянно дергая меня за рукав, как бы предупреждая, чтобы я её не прерывал.
— В прошлый четверг на заводе состоялось отчётно-выборное партийное собрание. После доклада в прениях выступили многие коммунисты. И никто резко не критиковал меня. Работа партбюро была признана удовлетворительной. Но меня не избрали в новый состав бюро, хотя моя кандидатура шла первой. Скажи, что же это такое? За что я понесла наказание?
— Не разобравшись, мне ответить трудно, Саша, — сказал я.
— А я знаю, — продолжила она. — Меня на заводе не любят за мою прямоту, за критику.
— А много человек проголосовало против? — спросил я.
Ответа не последовало.
Позже из бесед с коммунистами я узнал, что собрание проходило далеко не так, как представлялось Александре Ивановне. Уже в ходе отчётного доклада в зале повеяло холодком, а в сдержанных выступлениях явно чувствовалось, что коммунисты не довольны руководством своего секретаря. Но Конышева этого не заметила, и для неё итоги выборов членов партбюро оказались полной неожиданностью.
На собрании в новый состав выдвинули десять человек, а выбрать надо было девять. За кандидатуру Александры Ивановны проголосовали двадцать человек, против — восемьдесят шесть. Это было самое большое число голосов, поданных против.
Для меня стало ясно, что Конышева допустила какую-то ошибку, ибо упрекнуть её в неграмотности или незнании дела было невозможно. На заводе её знали как скромного человека, требовательного к себе и окружающим. Что же касается характера, то он не мог быть помехой в её работе.
Но почему же забаллотировали кандидатуру Александры Ивановны?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, мне пришлось познакомиться с работой партбюро завода. Я узнал, что именно побудило коммунистов голосовать против Конышевой — человека, которого они когда-то сами выдвинули на руководящую партийную работу, которому они доверяли.
За годы войны парторганизация завода выросла почти втрое. Нужно было заботливо воспитывать новых товарищей, но Александра Ивановна редко созывала партсобрания и отчитывалась перед коммунистами. Она не привлекала вновь принятых к общественной работе, не помогала им овладевать теоретическими знаниями. А люди, как никогда, потянулись к знаниям, к учёбе. Когда некоторые коммунисты пытались высказать замечания, Конышева даже не выслушивала их.
Однажды она вызвала к себе в кабинет мастера сборочного цеха Семёнова.
— Знаете, я хочу с вами посоветоваться, как нам лучше построить работу с агитаторами. Ведь, вы агитатор.
Семёнов сам несколько раз собирался зайти к Конышевой. Он три года был агитатором в армейской части и, вернувшись с фронта, с охотой взялся за эту работу. Но дело у него не клеилось: не хватало навыков агитработы в гражданских условиях. Ему нужна была помощь партийного бюро и его секретаря. Обнадёженный теплой встречей Семёнов повёл откровенный разговор:
— Понимаете, нам нужна помощь и контроль.
— Нет, дело не в этом, — перебила его Конышева.
— По-моему, в этом, — сделав ударение на «е», сказал Семёнов.
— Вы сначала научитесь правильно ударения ставить, а потом уж возражайте, — резко отпарировала секретарь.
И Семёнов умолк, не проронив больше ни слова.
Её непререкаемый тон не раз вызывал обиду, а подчас и недовольство коммунистов. Как-то в слесарной замедлился выпуск одной детали, и на заводе образовалась «пробка». Конышева пришла в цех, обвела суровым взглядом слесарей и тоном, не терпящим возражений, приказала работать, не уходя с завода, пока деталь не будет готова. Никто ей не возразил, но у рабочих, среди которых были и беспартийные, остался нехороший осадок. Секретарь бюро не поговорила с ними, не выяснила, в чём дело, не посоветовала, как лучше выйти из затруднения.
Давний мой знакомый, пожилой рабочий Кузьма Прохорович Романов так сказал мне о Конышевой:
— Ей надо научиться говорить с людьми более сдержанно, выслушивать замечания коммунистов и советоваться с ними. Надо в душу человека входить. А пока Александра Ивановна не любит критики. Вот хочешь иногда ей помочь, делаешь замечание, а она воспринимает его как подрыв авторитета и обижается.
Я переговорил со многими заводчанами, и мне стало ясно, что во многом была виновата сама Конышева. Она часто забывала, что является, прежде всего, политработником, и вмешивалась даже в распоряжения директора, самолично отменяя их. Александра Ивановна не прислушивалась к голосам коммунистов, не учила их и сама не училась у них. В этом была её беда.
— Но и мы, коммунисты, — поделился Прохорыч, — тоже виноваты. Александра Ивановна — хороший человек. Она очень много сделала для завода. Её можно было бы поправить, если бы мы решительнее указывали ей на недостатки, смелее критиковали её методы руководства. Мы этого не сделали и испортили человека. Теперь как-то совестно, когда встречаешься с ней.
На заводе я пробыл три дня и перед отъездом снова побеседовал с Александрой Ивановной. Она встретила меня вопросом:
— Скажите, ну за что со мной так поступили? Ведь, вы теперь всё узнали.
— Да, узнал, и виноваты во всем вы.
— Я? — с явной внутренней болью переспросила она. — Не может этого быть.
— Не торопитесь, — прервал я её. — Надо научиться выслушивать других.
И я подробно передал Конышевой всё, что слышал о ней. Она слушала молча, закусив губу, и слёзы бежали по её лицу.
— Характер, понимаете, характер, — проговорила она.
— Да, Саша, характер у вас нелёгкий. Но не только в нём дело. Порочен сам стиль руководства. Не изжив этого порока, нельзя работать с людьми, — сказал я.
Конышева со мной согласилась.
Версия для печати